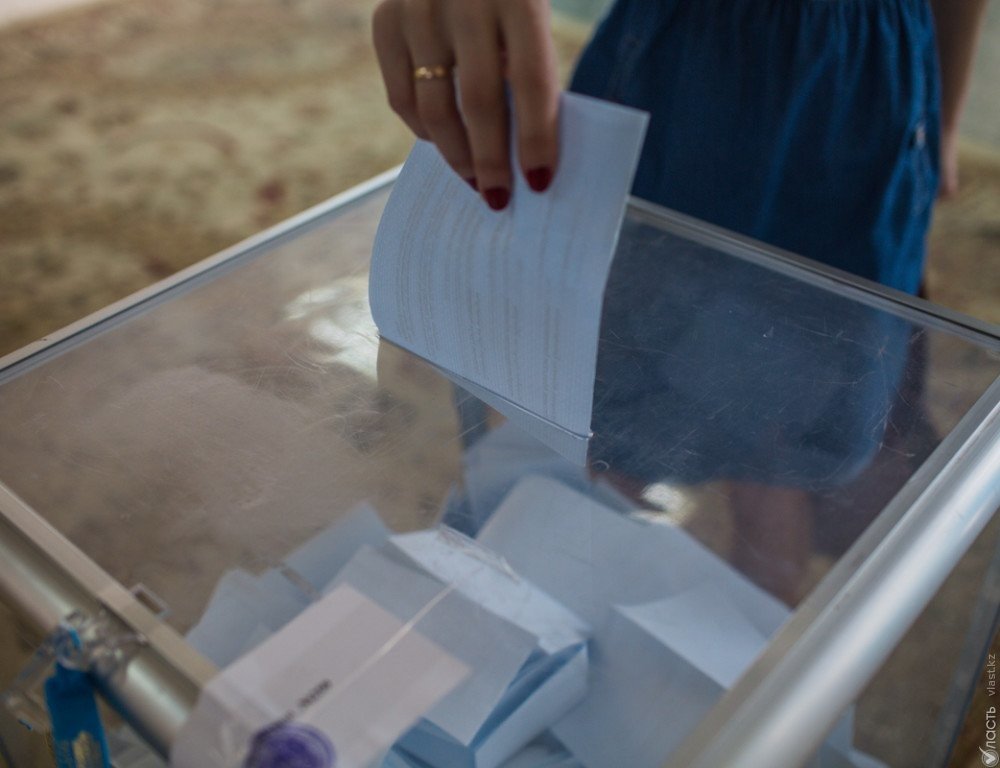Внутренняя политика. «Разделение властей» и права человека.
Подводя итоги года, стало привычным отмечать все большее сужение гражданских прав и свобод, либо отсутствие каких бы то ни было перемен. Минувший год, несмотря на объявленные в январе реформы, не стал исключением: заметных перемен в политике нет, как (почти) нет и самой политики. Упомянутая политическая реформа, призванная внедрить фундаментальный демократический принцип разделения властей, закончилась, по сути, ничем. По мнению иных экспертов – прямо противоположным тому, что ожидалось. «По существу, ничего серьезного не произошло. Напротив, неожиданно в конституции пролезли замшелые и тоталитарные нормы, вроде лишения гражданства за преступления, связанные с экстремизмом. Появились нормы, которых не было даже в проекте! Все это трудно назвать вдумчивым законотворчеством. Скорее это похоже не решение определенных политических задач, решаемых правовыми методами», - говорит директор Казахстанского Международного бюро по правам человека (КМБПЧ) Евгений Жовтис.
Независимый политик и публицист Амиржан Косанов называет внесенные в Конституцию поправки «косметическими» и «не меняющими суть самой власти и ее ветвей». Здесь, по словам Косанова, свою роль играет пресловутый транзит власти: люди в верхах, имея виды на Акорду в будущем, якобы не заинтересованы в реальном сокращении президентских полномочий. «Скорее всего, - говорит Косанов, - такая осторожность (в реальном перераспределении властных полномочий – V) связана с тем, что кое-кто, вхожие к елбасы, постепенно отговаривают его от ранее заявленной идеи реального перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством. Видимо, не хотят в случае определения преемника (а каждый из кланов мнит себя в роли второго елбасы!) терять общий контроль над ситуацией! Ничем иным такую нерешительность объяснить невозможно»
Прогноз по поводу реального усиления и обретения независимости другими ветвями власти – правительством и парламентом – неутешителен: «Насколько активны в плане реализации своих новых конституционных возможностей будут ветви власти неизвестно по двум причинам. Во-первых, поля для широкого маневра нет, а во-вторых все зависит от волеизъявления самого елбасы – пока именно он будет определять линию их поведения. Причем без всяких законодательных поправок», - считает Косанов.
Значительных перемен не стоит ожидать и в отдельных органах власти – в прокуратуре и суде, руководство которых недавно сменилось. «От перестановки слагаемых сумма не меняется, если речь идет об авторитарной системе. Персонально можно что-то немного поправить. Скорректировать. Но, если речь идет об исправлении, то надо менять всю систему. Конечно, хорошо, когда господин Асанов делает довольно грамотные функционально вещи. Возможно, он попытается сделать что-то и в судебной системе, хотя я слабо представляю себе, что там можно сделать. Суды биты авторитарной системой. Тем более, мы имеем дело с ротацией в одном слое – люди переходят с места на место. Люди ходят по кругу. Когда говоришь с иностранцами, то они в недоумении, как может генпрокурор превратится в председателя Верховного суда и наоборот. Это совершенно разные функции и задачи! Для меня это тоже невозможно. Это разные ветви власти», - говорит Жовтис.
Политик Косанов также не ждет улучшений в судебной системе в связи с перестановками. «Я философски отношусь к телодвижениям внутри системы. Ну чем они, новые и старые кадры, отличаются друг от друга? Они же все солдаты этой системы и будут осуществлять свои полномочия не на основе Конституции и законов, а по приказу сверху! В этом смысле не думаю, что будет разительная перемена в этих органах власти по сравнению с предыдущими руководителями. Единственное их различие заключается в их принадлежности к тем или иным кланам», - говорит он.
Закостенелость государственной системы, отсутствие реальной политики могут сыграть против самих властей. Без независимых политических игроков, партий или движений, социальное недовольство, выражавшееся в минувшем году в нескольких забастовках рабочих, может нарасти. «Тем более, в этом году добили независимые профсоюзы. Были процессы против профсоюзных лидеров Харьковой, Елеусиновой и Кошакбаева. Эти действия властей могут сильно срекошетить в них самих. Если у вас нет организованных профсоюзов, с которыми можно вести нормальный диалог, то вы создаете проблемы для решения социальных конфликтов. А они обязательно будут. У нас имеются социальные проблемы. Социально-экономическая ситуация напряженная. Все больше проблем. Соответственно, их возникновение подразумевает рост протестной активности. Если же вы уничтожили профсоюзы, которым трудящиеся верят, то будете каждый раз работать как пожарная команда. Ситуация в Шахтинске – это классический пример. Шахтеры показали свое отношение к подконтрольным властям профсоюзам», - считает Жовтис.
Соответственно, именно социальные вопросы могут стать тем, что создаст большую протестную активность. Тем более, что шахтеры – далеко не единственная сильно обделенная группу граждан. «Эти проблемы актуальны для всех, кто работает (и не работает!) в Казахстане. Кто сказал, что у тех же учителей и врачей – достойные зарплаты?! А это значит, что напряженность будет расти. И власти нужно готовиться к новым всплескам народного протеста. А от социально-экономических требований, с которых начинаются такие акции протеста, до политических лозунгов – всего лишь один шаг!», - считает Косанов.
Внешняя политика. Совет безопасности ООН, Центральная Азия и отстаивание интересов Казахстана и казахов.
В минувшем году Казахстан стал непостоянным членом Совета безопасности ООН. Страна сохранит свое место в нем и в этом году. Вхождение в Совбез ООН – серьезное приобретение для международного имиджа страны, однако направление работы этого органа – скорее бюрократическое, поэтому выделить особенно яркие успехи здесь сложно, считает политолог, профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев. «Работа Совета безопасности ООН, и участие в нем того или иного государства, особенно – непостоянного члена, по моему мнению, обычная рутинная и бюрократическая работа. В этом плане Казахстан работает и работает нормально. Безусловно, вхождение в Совет безопасности даже на непостоянной основе – серьезный имиджевый успех, особенно на национальном и региональном уровнях. Но чего-то особого я выделять бы здесь не стал – повторюсь, это, главным образом, бюрократическая работа», - считает Бурнашев.
Куда важнее для Казахстана региональные вопросы, уверен Бурнашев. Именно на них следует обратить внимание в ближайшем будущем. «Это, во-первых, усиление тенденции переноса личностных моментов и восприятий на межгосударственные отношения. И, во-вторых, что является, безусловно, более важным, четкий тренд на изменение ситуации в Узбекистане – как во внутренней социально-экономической политике, так и в политике внешней. Реализация Узбекистаном имеющегося у него потенциала – особенно если процесс здесь будет идти по контролируемой нарастающей и без секьюритизации надуманных угроз – один из ключевых вызовов для Казахстана. Но, очевидно, это не угроза для Казахстана или что-то, чего Казахстану нужно опасаться. Это вызов, который формирует для Казахстана новые возможности», - говорит политолог. Кроме того, по его словам, у наших стран нормальные отношения, но есть области, в которых сотрудничество следовало бы усилить. Особенно это касается миграционных вопросов.
Другой вопрос – как будут развиваться отношения с Кыргызстаном, которые в минувшем году из-за пикировок политиков и госдеятелей с обеих сторон грозили ухудшиться. Здесь главный риск, по мнению Рустама Бурнашева, заключается в переносе личных отношений отдельных политиков на межгосударственный уровень. «Конфликт между «Казахстаном» и «Кыргызстаном» носил исключительно персонифицированный характер и был связан с особенностями личностного восприятия ситуации (поэтому я и беру названия стран в кавычки). На настоящий момент один из участников конфликта ушел на периферию политической жизни своей страны. Соответственно, каких-либо оснований для возобновления конфликта пока нет. Но это не значит, что ситуация не может повториться в принципе – модель реагирования задана, соответственно она перешла в разряд возможных. Таким образом, ключевым вызовом и риском здесь выступает повторная возможность перевода личностных восприятий и отношений на государственный уровень в будущем. К сожалению, в странах Центральной Азии институциональные преграды для такого варианта развития событий (формируемые, например, за счет разделения различных ветвей власти) крайне низки», - сетует политолог.
С другой стороны, во всей этой истории есть плюс – она не испортила и вряд ли сможет испортить отношения между соседними народами в будущем. «Обострения отношений между Казахстаном и Кыргызстаном осенью сего года развивались на уровне отсутствия взаимопонимания в политических кругах двух стран и мало чего общего имеют к возможному возникновению трений конкретно между казахами и киргизами на территории нашей страны. Единственное – подобные инциденты потенциально могут стать «раздражающим» фактором, носящим временный характер, но не более», - говорит Мадина Бижанова.
Другой вопрос - это межэтнические отношения за пределами Казахстана, особенно в странах, на которые мы почти никак не можем повлиять. В этом году все чаще стала подниматься тема положения казахов за рубежом, особенно в Китае. Слухи о притеснении казахов подогревались новостями об их задержаниях в качестве подозреваемых в различных экстремистских начинаниях в Синьцзяне. Вопрос положения казахов комментировал министр иностранных дел Абдрахманов, уверявший, что он в «всегда в орбите» МИДа, и что МИД обсуждает вопрос с китайской стороной. По мнению Мадины Бижановой, вполне вероятно, что на формальном обсуждении все и закончится.
«В случае с запросом сенатора Кылышбаева к премьер-министру касательно вопроса ущемления прав казахов в Китае, мне видится, что максимум, чего можно ожидать - это формальное затрагивание данного вопроса с китайской стороной. К слову, по этому кейсу уже высказались как министр иностранных дел РК, так и посол КНР в Казахстане. Поднятие вопроса как такового можно связать с приобретением «нового» политического веса Республики Казахстан как международного игрока в рамках получения непостоянного членства в Совбезе ООН. Как бы то ни было, говорить о том, чтобы этот вопрос популизировался или лоббировался Казахстаном в контексте придерживаемого поступательного характера казахстанско-китайский отношений, учитывая участие нашей страны в Совбезе ООН, не приходится», - уверена эксперт.
Более того, подобный формализм касается казахской диаспоры не только в Китае. «Если говорить об этнических казахах за рубежом, то помимо пространного словосочетания «оказание поддержки/помощи казахской диаспоре в зарубежных странах», которое проскальзывает во многих нормативно-правовых актах (например, Указ о Положении Ассамблеи народа Казахстана от 2011 года), в 2000 году правительство постановило оказать гуманитарную помощь казахской диаспоре, проживающей в Баян-Олгийском округе Монголии. Насколько можно быть уверенным по информации, доступной в сети, это было первое и последнее в своем роде начинание, направленное на улучшение ситуации казахов за рубежом вне культурной плоскости», - говорит Бижанова.
Судя по всему, формальный подход – это любимый метод казахстанских властей, а на перемены, «спущенные» сверху, надеяться нет смысла.