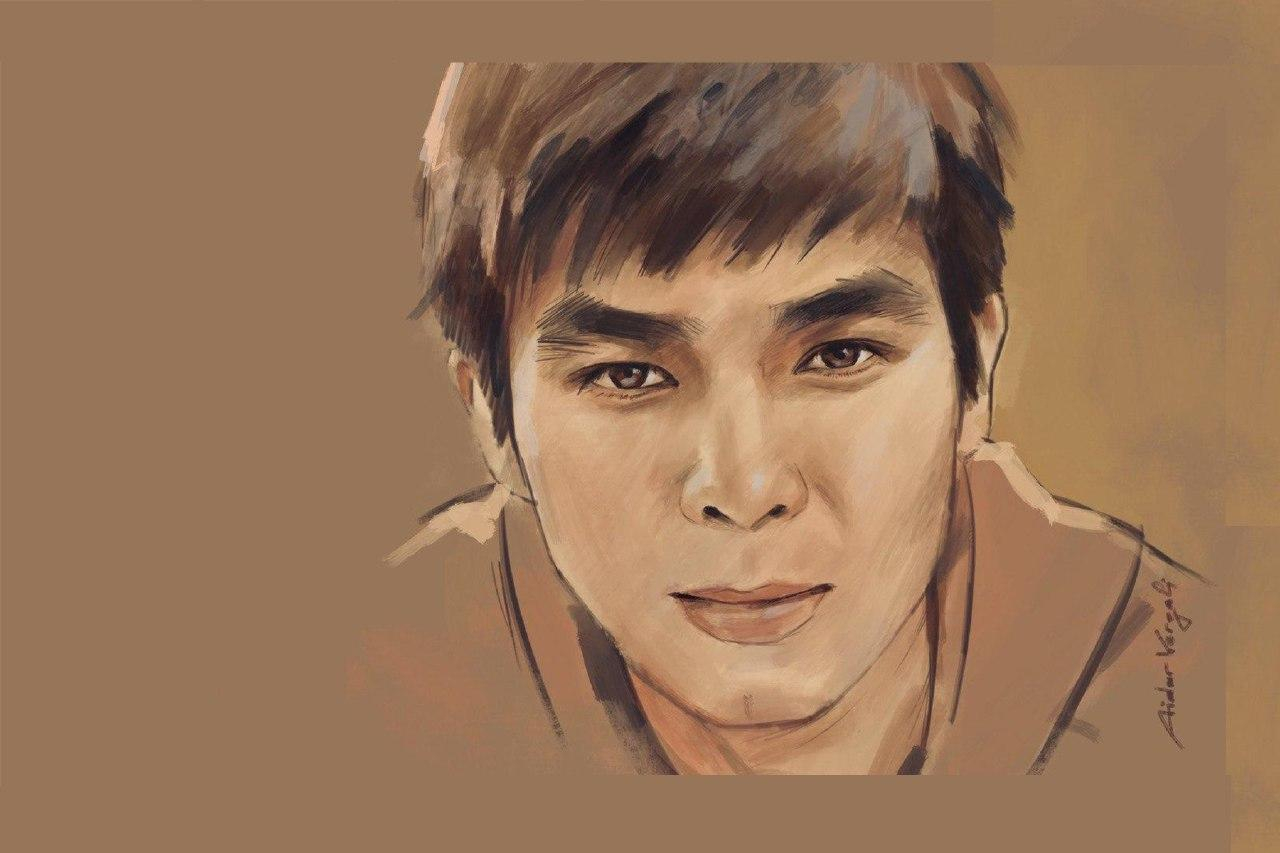ҒЫЛЫМ FACES – проект, цель которого представить казахстанских ученых – разного пола и возраста, живущих в Казахстане и за рубежом, представителей самых разных направлений науки, объединенных любовью к научным исследованиям.
Первым героем проекта стал Айдын Есжанов — казахстанский зоолог, специалист по зоонозным инфекциям, чумолог. Окончил бакалавриат, магистратуру и докторантуру PhD КазНУ им. Аль-Фараби. Прошел программу пост-докторантуры Университета Ливерпуля (Великобритания) по программе «Ньютон-Аль-Фараби». Автор более 40 научных публикаций, один из специалистов по переносчикам и носителям особо опасных инфекций.
Биолог и вирусолог Асель Мусабекова поговорила с Айдыном Есжановым о чуме, об отношении к эпидемиям и о том, почему исследования об опасных инфекциях именно сейчас могут стать отправной точкой для того, чтобы поставить Казахстан на карту настоящих фундаментальных научных открытий.
Асель Мусабекова: Каким специалистом ты себя считаешь?
Айдын Есжанов: Если в широком смысле, то я зоолог. Но свою PhD диссертацию я писал по эпизоотологии. То есть я – эпизоотолог, специалист по носителям и переносчикам зоонозных инфекций. В англоязычной терминологии это называется «disease ecologist» – специалист, занимающийся экологией заболеваний.
Асель: А как ты пришел в зоологию?
Айдын: Я с детства любил животных. Каждую субботу в 11 часов я ждал передачу «В мире животных» моего кумира детства Николая Дроздова. У нас был огород, я наблюдал за жуками и муравьями. В 14 лет мне удалось попасть в научно-производственное объединение «Фауна» на территории Института зоологии. Это была паучья ферма, где разводили разные виды пауков: каракуртов, тарантул, и брали у них яд. Находясь там я начал ездить в экспедиции, с этого всё и началось. Родители хотели, чтобы я стал дипломатом. Но после того, как я попал в «Фауну» и съездил в первую экспедицию, твердо решил, что пойду на биофак. Отец из-за этого даже не разговаривал со мной два месяца.
Асель: Эпизоотолог — это суперактуальная профессия, как мы все видим. Кто в стране занимается этим направлением? Какие у нас есть научно-исследовательские институты?
Айдын: Институт, где я проработал 10 лет, – Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева. Ранее он назывался Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций (КНЦКЗИ), а еще раньше -– Среднеазиатский противочумный институт. Всё началось с того, что в конце 1940-х годов в Алматинской области, в Прибалхашье была зарегистрирована вспышка чумы среди людей, так называемая «Кокозекская вспышка», и после её ликвидации был издан указ, что нужно создать специализированный институт, который будет заниматься изучением природной очаговости чумы и разрабатывать стратегии по превентивным мерам. Вот так возник Среднеазиатский противочумный институт. Функционирует он с 1949 года.
Асель: Там есть лаборатории биологической безопасности для работы с такими инфекциями, как чумная палочка?
Айдын: Все, наверное, слышали про Центральную референс лабораторию (ЦРЛ). Она классифицируется, как лаборатория третьего уровня биологической безопасности. Это значит, что она оборудована для работы с особо опасными инфекциями третьей группы.
Асель: А как регулируется международным законодательством присутствие чумной палочки в лабораториях?
Айдын: Во-первых, наша страна подписала Конвенцию о запрете производства или исследования биологического оружия, это главный международный документ. Во-вторых, этот институт относится к режимному объекту, т.е. охрана там на соответствующем уровне. Ничего туда просто так не занести и оттуда не вынести. Контролируется это строго, как законодательными актами, так и техрегламентом (соответствующие фильтры и т.д.). Вся информация о выделенных штаммах анализируется, классифицируется с присвоением уникального кода и содержит подробную информацию о дате, месте, объекте, от которого он был выделен. Но так как я не лабораторный сотрудник, подробными деталями я не владею. Моя работа полевая.
Асель: Меня беспокоит, что у нас люди боятся того, чего не нужно бояться, и наоборот.
Айдын: Возможно, просто многие люди не осознают, что по сути все эти патогены, тот же птичий грипп, Эбола и коронавирус, они вокруг нас. Человек – неотъемлемая часть биосферы.
Асель: Это подчеркивает важность фундаментальных исследований того, как ведут себя зоонозные инфекции в природе. Расскажи, пожалуйста про то, как работает чумолог в поле и подробнее про свой PhD проект.
Айдын: На территории Казахстана располагается один из самых крупных и один из самых активных очагов – Среднеазиатский пустынный природный очаг чумы. Он занимает 39% от территории Казахстана, а по другим оценкам – больше. У нас насчитывается 20 автономных очагов: 17 пустынных и степных и 3 горных очага. Существует несколько подвидов чумной палочки в зависимости от главного носителя. У них разная степень патогенности, чувствительности к антибиотикам. В горных очагах носители инфекции – сурки (как, например, в случае недавней вспышки в Монголии), либо полевки. У нас большую часть занимают пустынные очаги, где носителем является большая песчанка – главный объект моих исследований. Большой песчанке посвящено более 10 тысяч различных научных работ. Но, несмотря на это, классификация песчанок до сих пор не проработана.
Мой проект заключался в том, чтобы, во-первых, определить количество подвидов и разных региональных комплексов на основании морфологического анализа. Почему это важно? Потому, что разные подвиды могут иметь разную восприимчивость к чумному микробу. Часть из них резистентны (устойчивы) к бактерии: патоген может успешно циркулировать в популяции носителя, другие более восприимчивы. Во-вторых, важно выявление того, какие природные факторы влияют на большую песчанку и эктопаразитов (блох), и в результате – на активность чумной палочки. Еще одной задачей проекта было выявление природных факторов, которые влияют на большую песчанку и эктопаразитов (блох), и в результате на активность чумной палочки. Это позволило нам выявить, как такие факторы влияют на возможность возникновения эпизоотии (эпидемии в популяции животных). Я изучал влияние количества осадков, солнечной активности, температурного режима в течение нескольких лет в Южном Прибалхашье.
Асель: К какому выводу вы пришли?
Айдын: Существует timelag – временной шаг (афтершок) последствий, который составляет около двух лет. Например, после того, как наблюдалась вспышка солнечной активности, популяция продолжает реагировать на этот фактор в течение следующего года или даже двух. В зависимости от этого может быть рост численности носителя и его активности, или наоборот.
Асель: Как именно влияют эти факторы?
Айдын: К примеру, если мы наблюдаем большое количество осадков в зимний и ранне-весенний период, то паводковые воды и оттепель, которые заполняют норы грызунов, напрямую влияют на популяцию. Талые воды заливают норы грызунов, портят кормовые запасы. В результате переохлаждение и сырость влияет на иммунитет животных, они будут более восприимчивы к чуме. Если та часть популяции, которая выживет после катастрофы, столкнется с патогеном, то есть достаточно высокая вероятность развития эпизоотии.
Асель: Из этого следует простой, и, возможно, глупый вопрос: а зачем вообще нам всем нужна песчанка в пустыне? Нельзя ли просто уничтожить всех носителей инфекции?
Айдын: Этот вопрос был мне задан во время защиты диссертации. Большая песчанка – это ключевой средообразующий вид для пустынных экосистем. Экосистема держится вокруг её нор, которые создают микроклиматические условия для обитания других видов. Многие птицы гнездятся в норах грызунов, там же живут рептилии, не говоря уже о сотнях видов беспозвоночных. Вторая роль: в пустынных биоценозах нет земляных червей. Грызуны – роющие животные, они перемещают большие массы почвы, таким образом, происходит обмен микроэлементами и аэрация почв.
Асель: Как насчет загрязнения среды? Влияет ли загрязнение на зоонозные инфекции, на популяцию носителя и переносчика?
Айдын: Разумеется, влияет, в зависимости от концентрации и степени длительности воздействия. Если фактор загрязнения действует продолжительное время, то он может негативно сказываться на популяциях некоторых животных, но в то же время это является фактором естественного отбора. При загрязнении иммунная система ослабевает, животные будут более восприимчивы. Какие-то популяции могут справиться с таким воздействием, какие-то – нет.
Асель: Измеряется ли уровень загрязнения с привязкой к зооноозным инфекциям? Того же гептила, например.
Айдын: Я не занимался этой темой. Но что касается мелких млекопитающих, из-за их высокой плодовитости, как правило, их популяция достаточно быстро восстанавливается. В случае с более крупными животными, такими, как сайга или джейран, восстановление займет гораздо больше времени. И подобные случаи загрязнения могут иметь более значительные последствия.
Асель: Как твой PhD проект перешел в исследование с партнерами из Великобритании?
Айдын: Когда я работал в КНЦКЗИ, у нас были совместные проекты с Университетами Ливерпуля, Антверпена, Утрехта при поддержке фондов WellcomeTrust, Wetenschappelijk onderzoek. В частности, мы изучали, как наземная активность песчанки способствует распространению блох по норам прилегающих территорий. Так же, как люди ходят друг к другу в гости и заражают, к примеру, коронавирусом или гриппом, так и песчанки ходят по норам и приносят «подарки» в виде блох. Мы обнаружили интересную закономерность: когда численность популяции высокая и большинство нор заняты, это обстоятельство препятствует распространению инфекции, так как песчанки – животные территориальные. Самцы защищают свой участок, препятствуют проникновению в свои норы, не подпуская чужаков к самке. Когда популяция уменьшается, появляется большое количество пустующих нор. Песчанки посещают пустующие норы, где сидят голодные блохи, и приносят паразитов вместе с чумой уже в свои семьи. Для чумы хорошо, когда популяция находится в средних значениях, когда есть занятые норы, где обитают грызуны, и пустующие норы, которые имеют роль рассадника инфекции.
Тогда мы задались вопросом: каким образом чума может перемещаться в пространстве, появляясь там, где ее раньше не было? Эта тема в принципе не новая, она изучалась и в советское время. К слову, советский период был очень плодотворным в вопросе изучения чумы. Но сейчас появились новые методы, например GPS-передатчики, у нас появилась возможность взглянуть на этот вопрос по-новому. И я подумал, что так как песчанками питаются многие хищники, а особенно представители семейства куньих – хорьки, ласки, то если на какой-то территории песчанок нет, хищники будут вынуждены искать песчанок на других территориях. Во время путешествия такие хищники будут посещать множество нор. К примеру, было установлено, что за сутки один хорек-перевязка может посетить более ста нор! Следовательно, хищники станут пассажирскими лайнерами для голодных блох, которые в отсутствие других носителей сядут на кого угодно.
Асель: А сами хищники не подвержены чумной палочке?
Айдын: Хищники, в отличие от грызунов, очень резистентны. Они болеют чумой, но иммунитет у них очень активно борется с инфекцией.
Асель: А почему так?
Айдын: Вероятно, дело в эволюции. Хищники часто питаются ослабленными животными, а также падалью, зараженной глистной инвазией, вирусной или бактериальной инфекцией. Если копытные, например, чувствительны к ящуру или сибирской язве, то стервятники, например, очень резистентны ко многим заболеваниям, они могут утилизировать тушу павшего животного и им ничего не будет. Такая же закономерность наблюдается в США у койотов, которые часто являются разносчиками сибирской язвы, но сами не погибают.
Асель: Есть ли у человеческой популяции такая закономерность, может ли он противостоять инфекции в зависимости от места проживания? В Монголии, к примеру, недавняя вспышка чумы ведь была из-за того, что там едят сурков.
Айдын: В рамках эволюции человек не так давно соприкасается с этими патогенами. Поэтому у нас такой резистентности, как у хищных животных, нет.
Асель: Тогда вернемся к твоей гипотезе о хищниках. Получается, ты хотел проверить ее с помощью новых методов?
Айдын: Когда я закончил PhD, фонд «Ньютон-Аль-Фараби» объявил о конкурсе, в рамках которого можно было подать на двухлетний проект. Темой моей заявки была «Роль наземных хищников в качестве альтернативных носителей чумного микроба в Прибалхашком пустынном очаге». К счастью, этот грант я выиграл и поехал в Ливерпуль на постдок.
Асель: А что это за лаборатория? Почему Ливерпуль?
Айдын: Там у меня были налажены хорошие профессиональные связи, в частности, с одним из крупнейших экологов в мире и специалистом по изучению экологии чумы и ее носителей профессором Майклом Бигоном (Michael Bеgon). Он был моим вторым руководителем во время докторантуры. Он подтвердил, что тема подходящая, так как таких исследований в англоязычной литературе практически нет.
Асель: Наивный вопрос: почему вообще могут быть интересны казахстанские очаги чумы для западных ученых?
Айдын: Им интересны не только казахстанские очаги. Сейчас очень большой интерес мировых чумологов вызывает Мадагаскар, потому что ежегодно там регистрируют около 2000 смертей от чумы. Там высокая смертность обусловлена специфическими штаммами, но также тем, что плохо разработаны превентивные меры, в отличие от нас. У нас последний случай человеческого заражения был в 2003 году в Западном Казахстане.
Асель: Значит, взглянув на Мадагаскар, мы можем представить, что может быть у нас, не будь у нас такой четкой системы контроля. Почему еще интересует Казахстан?
Айдын: Дело в том, что за годы советского периода накоплен огромный фактический материал по теме чумы. В нашей противочумной системе контроля существуют противочумные станции, специалисты которых дважды в год выезжают в поле и проводят мониторинг: отлавливают грызунов, собирают блох, проверяют образцы на наличие чумной палочки, всё это хранится в единой базе данных. Фактически – это золотая жила для исследователя, который хочет понять экологию чумы.
Асель: А используется ли математическое моделирование в работе с такими данными?
Айдын: Используется. Чума привлекает математиков в плане создания прогностических моделей, чтобы понять, когда в следующий раз можно ожидать вспышку чумы – эпизоотию (в популяции животных) или эпидемию (в популяции людей).
Асель: Наши исследователи в этом участвуют? Как ты оцениваешь заинтересованность нашего государства в исследованиях по прогнозированию зоонозных эпидемий?
Айдын: В Казахстане наблюдается большой недостаток специалистов по математическому моделированию, особенно в области создания прогностических моделей. Эта проблема заслуживает отдельного внимания. Это большое упущение нашей науки и нашего образования, так как в университетах не преподается должным образом «data science – наука о данных», «machine learning – машинное обучение», и даже иногда обычная статистика. Зачастую студенты не владеют такими программами, как Python, R. Я столкнулся с этим лично, так как мой бэкграунд не связан с математикой и моделированием, мне было тяжело во время PhD, приходилось осваивать на ходу. Мы сидим на золотой жиле из данных не только в разрезе чумы, но и по другим инфекциям: Конго-крымской геморрагической лихорадке (ККГЛ), туляремии и т.д. Если этот массив данных соответствующим образом проанализировать и использовать, возможны реальные открытия.
Асель: Возможно, дело в том, что эти направления исследований исторически связаны с секретностью, потому как такие инфекции – это вопрос биобезопасности?
Айдын: Я не думаю, что это специальный курс политики Казахстана, что у нас отсутствуют аналитики. Это просто упущение. И такое наблюдается во многих сферах, элементарно у нас не хватает зоологов. При всем том, что у нас была отличная советская база по зоологии, к сожалению, сейчас специалистов выпускаются единицы. Хочу обратить внимание и на некий перекос в подготовке биологов в ВУЗах, я бы назвал это «увлечением» в сторону молекулярной биологии, генетики, биотехнологии. Я не говорю, что это плохо, но не стоит забывать и о подготовке специалистов фундаментальных направлений (зоологов, экологов, ботаников и т.д.), так сказать, откуда все начиналось. Тем более, что Казахстан отличается разнообразием природно-климатических зон и богатым биоразнообразием. Сейчас, в век глобализации, необходимо наладить механизмы по сохранению и устойчивому использованию природных ресурсов, но здесь у нас нехватка именно в специалистах базовых направлений.
Асель: Есть похожий очаг чумы на юго-западе Америки, так? Можно ли с ними устраивать коллаборации? Как вообще у нас относятся к международному сотрудничеству в этой сфере?
Айдын: Коллаборации существуют, они есть и с американцами, и с коллегами из Западной Европы. В последнее время есть подвижки и в работе с КНР. Китайцы очень продвинулись в изучении зоонозных инфекций, и в том числе чумы. В последний раз, когда я был в Мадагаскаре на съезде чумологов, я заметил, что китайские ученые на самом деле с каждым годом прогрессируют. Из того, что я понял, общаясь с китайскими студентами в Ливерпуле, раз в два года их научные сотрудники регулярно выезжают на стажировки в западные институты.
Асель: А в целом, что касается сферы исследований инфекционных заболеваний, я со стороны могу сказать, что мы закрыты. Это напоминает времена холодной войны. Сокрытие деталей исследования в публикациях – это давно уже не тренд, это прошлый век даже в биологии инфекций. Мы же до сих пор хотим, чтобы наука была эксклюзивной, мы не хотим, чтобы она была понятной. Как с этим бороться?
Айдын: Во-первых, касательно зашифрованности наших публикаций, стоит отметить, что существует свой регламент по публикации научных работ в сфере особо опасных инфекций и биобезопасности.
Если, к примеру, я занимаюсь большой песчанкой, то я буду стараться ни с кем не делиться своими данными. Так как будь это МОНовские гранты, или зарубежные проекты, мне нужно, чтобы они все выходили на меня. Так поступают некоторые наши ученые, и их можно понять, это лично мое наблюдение. Во-вторых, если ты заметила, как западные ученые пишут свои публикации: они подробно прописывают разделы, например методологию. У нас могут просто написать в двух словах: учет животных проводился традиционным методом. Всё. Здесь причиной являются и научные традиции советского времени. Вообще я за то, чтобы ученые объединялись, поскольку все крупные исследования и открытия сейчас совершаются не отдельными учеными, а научными коллективами. Ученые не должны чураться друг друга.
Асель: Вернемся к твоему проекту постдокторантуры. Ты предложил эту тему своему профессору в Ливерпуле? И что вам удалось узнать?
Айдын: Нам удалось пронаблюдать именно степень напряженности контакта между разными носителями. Мы изучали два вида хищников: ласку и хорька-перевязку, а также включили в исследование еще один вид – ушастого ежа, частого обитателя нор большой песчанки. Мне было интересно, как хищник, который заинтересован в контакте с грызуном, будет переносить блох и чуму и как с этим справится другой вид, комменсал (сожитель). Нами было установлено, что ежи предпочитают использовать норы грызунов, где подвергаются нападению блох и разносят эктопаразитов по другим норам.
Асель: А что происходит дальше? К какому практическому результату приводит подобное исследование?
Айдын: С практической точки зрения наши противочумные службы могут использовать эту информацию. У эпидотрядов, занимающихся отловом животных, существуют определенные нормы по количеству грызунов, которых они должны поймать в сутки для анализа в лаборатории. Бывает, когда численность грызунов низкая, этой нормы не достает, и чума не обнаруживается. Им можно посоветовать заняться обследованием хищников. Так как получается, что чаще всего мы регистрируем в основном острые эпизоотии, и, возможно, с учетом носителей-хищников, мы можем уловить чуму на ранних стадиях эпизоотии.
Асель: Получается, что запоздание (timelag) связано частично и с биотическими факторами – с альтернативными носителями? Инфекция переходит с одной популяции носителей на другую, и влияние ее на возникновение эпизоотии откладывается по времени?
Айдын: Да. В итоге мы получаем сложную модель, в которой факторы живой и неживой природы могут влиять на возникновение эпизоотии. Всё пересекается и взаимодействует.
Асель: То есть вывод, что мы можем говорить о риске чумы, даже если мы не находим ее в популяции грызунов в достаточном количестве. Значит ли это, что нам, возможно, нужно пересмотреть нормы, чтобы избежать неприятных сюрпризов?
Айдын: Да. Когда эпидотряды находят чуму в популяции грызунов, то это регистрация острых эпизоотий, которые по сути верхушка айсберга. Что находится под землей, в норах – это отдельный огромный мир взаимодействий.
Асель: Получается, в прогностические модели мы должны вводить новые переменные в виде этих хищников, которые могут нам помочь сделать прогноз более точным?
Айдын: Прогностические модели на данный момент оперируют численностью носителя, в нашем случае большой песчанки, обитаемостью, то есть, сколько нор занято и сколько особей в норе, а также количеством осадков, солнечных дней, среднегодовой температурой. Другие аспекты, такие, как средняя дистанция, которую та или иная песчанка может пробежать, степень распространения блох и степень контакта – такие факторы пока не учитываются. Это большой пробел и задача для математиков.
Асель: В принципе, как это обычно происходит в биологии, мы всегда идем на усложнение. Чем больше мы знаем, тем больше мы понимаем, что система комплексная, и это нормально, это не повод для паники, а скорее повод для ввода новых данных, чтобы модель была более правдоподобной. Тогда в этой модели, когда мы рассматриваем непосредственно переносчика – блоху, что мы можем сказать об ее иммунной системе и реакции на чумную палочку?
Айдын: Чумной микроб – это интересное явление. Когда блоха сосет кровь зараженного животного (грызуна), чумная палочка с потоком крови попадает в ее пищевод и оседает на стенках преджелудка, начинает активно размножаться и блокирует пищевод. Соответственно, блоха постоянно испытывает голод, она становится более агрессивной и нападает чаще. По мере того, как блоха нападает на других животных и сосет кровь, поток крови ударяется об эту пробку из бактерий, и они в большой концентрации вымываются назад и заражают всё новых и новых хозяев.
Асель: У нас в стране изучают блох?
Айдын: Кое-какие исследования имеют место быть, но сложных молекулярных исследований по блохам подобно тем, которые проводятся в развитых странах, к сожалению, нет. Сложные и интересные работы проводились в советское время. В данный момент изучение блох сводится к их распространению, эпидемиологическому значению и борьбе с ними.
Асель: Для меня, как для молекулярного биолога, логично было бы генотипирование как самой инфекции, так и переносчика и носителя с описанием того, как эти виды вместе взаимодействовали в процессе эволюции.
Айдын: Похожий проект уже есть, но такие исследования редкость, и я согласен, что здесь непаханое поле для работы.
Асель: Я знакома с профессором Стефани Беккер из Ганновера, она была рецензентом моей PhD диссертации. Она изучает проблему расширения ареала энцефалитных клещей: они мигрировали из Сибири и дошли до Западной Европы. В Германии сейчас большой новый очаг клещевого энцефалита, ранее на этой территории был только боррелиоз. Причиной этому называют климатические изменения. В ответ на такое изменение эпидобстановки, Германия попросила Стефани заняться изучением клещей, их генетики и иммунологии. Человеку легче представить себе изучение иммунной системы млекопитающих, нежели беспозвоночных. Но, тем не менее – это важный аспект в биологии переносчиков. А что насчет блох? Насколько человек с ними знаком, кто их исследует?
Айдын: Очень хорошо по этой теме работают CDC, Институт Пастера, в Германии это Бундесвер. Ну, и Китай. Расширение ареала – эта тема меня очень интересует. Клещи, как и мухи-кровососки и другие эктопаразиты, могут перемещаться на дальние расстояния через мигрирующих животных (птиц и копытных). В 2019 в Западном Казахстане мы отловили один вид клеща, который обычно обитает намного севернее, в России. Он вероятно был занесен к нам через мигрирующих птиц. Вот налицо один из факторов, который может запросто принести какую-то эпидемию вроде Эболы и коронавируса.
Асель: Вот давай теперь об этом. Рынки с сырым мясом летучих мышей. Как вообще ты относишься к этому? Настало ли время изолировать человека от животного мира?
Айдын: Вся эта ситуация с коронавирусом, вспышки птичьего гриппа и Эболы – это напоминание, что эти патогены постоянно циркулируют в природе. Вопрос времени в том, когда пути человека и зараженного животного пересекутся. Одна из последних вспышек Эболы началась с того, что группа детей поймала летучих мышей и съела их. После они вернулись в свою деревню и заразили остальных. С коронавирусом похожая история.
Население земли растет, урбанизация наступает. Ничего не проходит бесследно, всё имеет свои последствия. Чем больше мы наступаем на территорию дикой природы, тем чаще будут возникать эпидемии. Как изолировать человека? Вести просветительскую работу, повышать образованность населения, менять кулинарные традиции и т.д. Эта проблема чаще всего возникает в бедных регионах. Чаще всего бедные люди употребляют летучих мышей, змей.
Асель: В этом есть наша общая заинтересованность. Мир глобален, мы можем добраться до любой точки земли за пару дней, равно как и инфекция внутри нас. Значит, относительно опасности эпидемии мы равны. Наконец настало время, когда то, что ест африканский ребенок, должно беспокоить нас всех.
Айдын: Это и ответ на вопрос, почему западные страны интересуются чумой в Казахстане. Любой иностранный турист может поехать на Чарынский каньон, провалиться в нору большой песчанки, где его покусают блохи. Завтра он окажется в Париже, а послезавтра у себя дома и принесет туда легочную чуму. А в свое время эта форма чумы выкосила половину Европы.
Асель: Насколько я понимаю, вакцина против этой формы чумы не сильно эффективна.
Айдын: Ее эффективность зависит от штамма бактерии, количества микробных клеток, полученных при укусе, состояния здоровья человека и т.д. Институт Пастера заявил о том, что их живая вакцина в Мадагаскаре работает достаточно хорошо. У нас тоже есть своя вакцина в виде убитого патогена, ею сотрудники прививаются в начале каждого эпидсезона.
Асель: Я знаю, что в мире ведутся работы и по субъединичной и ДНК-вакцине. Вообще, в плане вакцин я бы хотела, чтобы общество понимало, что разработка вакцин это настолько же фундаментальные, как и прикладные исследования. Меня очень пугает увлечение коммерциализацией в нашей науке. Ведь в области инфекционных заболеваний нам тоже важно понять, насколько важны фундаментальные исследования. Они на первый взгляд не принесут коммерческого результата и прибыли, но они работают в качестве задела на долгосрочной основе – создают пул экспертов, которые разбираются в этой проблеме. У тебя какое мнение на этот счет?
Айдын: Это трагедия казахстанской науки. Чаще всего люди, которые принимают решения о финансировании, не осознают, что без финансирования фундаментальной науки не будет прикладной, не будет ни биопрепаратов, ни вакцин. Есть отличный пример – это отрасль, которой я сейчас интересуюсь, которая совершенно не развита в нашей стране. Это использование нематод (круглых червей) для борьбы с насекомыми – вредителями. Как к этому пришли? Сначала это были фундаментальные исследования – обнаружили павших насекомых и выяснили, что есть нематоды, и у них есть симбионты, которые находятся в их пищеварительном тракте. Эти бактерии выделяют энтомотоксины, которые убивают насекомых в течение 48 часов. Так как они очень видоспецифичны, они абсолютно безвредны для других организмов. Таким образом, из сугубо фундаментальных исследований получилась многомиллионная индустрия с фабриками и заводами, которые производят биопрепараты.
Асель: Мой любимый пример – CRISPR. Никому не была нужна иммунная система бактерий, были проблемы с финансированием, а что было потом – революция и Нобелевская премия. Мы должны держаться не сколько за тех людей, которые могут обосновать коммерческое применение, а сколько за человека, который способен сформулировать СВОЮ идею.
Еще один вопрос, который я хотела бы обсудить — антибиотикорезистентность, так как эта проблема огромна в нашей стране. Есть ли такие опасения касательно чумы?
Айдын: Основная терапия против чумы – ударные дозы тетрациклинов, стрептомицинов и пенициллинов. Человека также изолируют на длительное время. Yersinia pestis также, как и другие бактерии, способна развивать резистентность к антибиотикам, но пока что она успешно лечится при своевременном обнаружении. Но если мы берем в учет, что у нас повсеместное безграмотное использование антибиотиков, то мы можем получить большую прослойку людей, которой в случае заражения определенной бактериальной инфекцией уже ничем не поможешь.
Асель: Здесь тоже я бы хотела, чтобы мы обратили внимание на то, что по сравнению, например, с гипотетической опасностью биотерроризма, бардак с антибиотиками – это реальная угроза уже сегодня. Правильный фокус в сфере инфекционных заболеваний нам необходим. Ты приехал из Англии – какое продолжение получил твой проект?
Айдын: Дальше был крупный проект, который я разрабатывал в течение полутора лет совместно с Университетами Ливерпуля и Антверпена, при поддержке DTRA. Мы хотели запустить крупное исследование на 5 лет по изучению альтернативных методов обнаружения чумы в очагах. Дело в том, что у нас эктопаразитов и грызунов убивают, а на западе так не делают – они берут пробы у живых грызунов и с помощью ПЦР определяют в лаборатории, не культивируя живые бактерии. Это не сильно приветствуется в мире из-за дороговизны и сложности хранения и работы с особо опасными культурами. В рамках данного проекта планировалось обучение и стажировки наших специалистов, оснащение современным оборудованием и т.д, но, к сожалению, проект не поддержали в институте, поэтому я решил сменить место работы.
Асель: Какие твои дальнейшие планы? Какие проекты у тебя сейчас?
Айдын: Я заканчиваю оформлять свои публикации с Ливерпулем, на очереди еще четыре статьи. Две статьи с другими партнерами уже поданы в журналы. Сейчас я являюсь сотрудником частной агрофирмы, где разрабатываю подход для использования энтомопатогенных нематод – биологического метода борьбы с вредителями сельхозкультур. А второе занятие для души. Так как я много лет проработал в Южном Прибалхашье, знаю и люблю этот регион, то устроился в природный резерват Балхаш-Иле, где будут проводить интродукцию амурского тигра. Но это уже совсем другая история.
Асель: Твое мнение о казахстанской науке: пациент скорее жив или мертв?
Айдын: Скорее мертв. Но есть отдельные энтузиасты, которые хотят работать вопреки, в том числе из старого поколения. Есть среди них и те, которые в ностальгии о советском прошлом считают, что молодежь всё продаст Западу. Есть люди, которые побывали на Западе и хотят что-то делать, но им не всегда это удается, и они либо уезжают, либо меняют поле деятельности. Есть люди, которые уходят в частные фирмы, например, по оценке биоразнообразия в местах добычи нефти. С точки зрения финансирования, ощущение, что поддерживают наиболее очевидные направления, такие, как технологии анти-старения и т.д. Хотя у нас есть ниши, которыми может заниматься только Казахстан.
Мы сидим на золотой жиле из данных по многим отраслям науки. При должном подходе мы можем превратить это в доход для государства по типу образовательного туризма Англии. Международные гранты и коллаборации могут помочь взрастить хорошие кадры, которые будут развивать науку в стране. Но не с такой поддержкой от государства и частных фондов, которую мы наблюдаем сейчас.
Поддержите журналистику, которой доверяют.