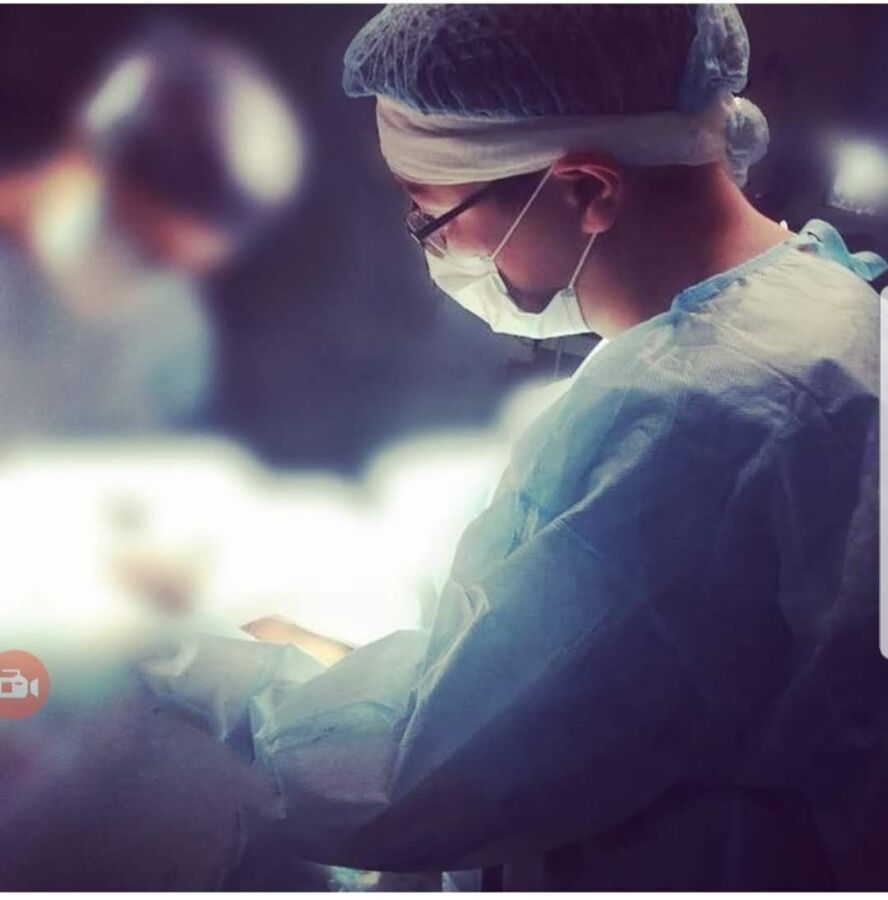ҒЫЛЫМ FACES — проект, цель которого представить казахстанских ученых — разного пола и возраста, живущих в Казахстане и за рубежом, представителей самых разных направлений науки, объединенных любовью к научным исследованиям.
Наш герой — Даурен Адилбай, известный казахстанский хирург-онколог, выходец из династии врачей. Его отец, профессор Галым Базенович Адильбаев, — хирург-онколог с 45-летним стажем, который одним из первых в нашей стране начал изучать опухоли головы и шеи.
Даурен Галымович окончил КазНМУ им. Асфендиярова, а также учился по программе «Болашак» в резидентуре в НМИЦ им. Блохина в Москве. Благодаря победе в международных грантах, проходил стажировки в крупных центрах и больницах Милана, Парижа, США и Индии.
В 2014 году он открыл второе в Казахстане отделение опухолей головы и шеи в столице, также работал в КазНИИ Онкологии и радиологии г. Алматы, руководил строительством новой больницы в Шымкенте.
Сейчас Даурен Галымович работает приглашенным исследователем в старейшем онкологическом центре США — Memorial Sloan Kettering Cancer Center в Нью-Йорке. Фокусом нашего интервью стала наука. Мы поговорили о роли вирусов в развитии рака, как наладить проведение редчайших микрохирургических операций и о том, какую роль играют научные исследования в карьере врача.
Асель Мусабекова: Даурен Галымович, вы врач и ученый. Как эти два определения совмещаются в вашей карьере?
Даурен Адилбай: Исторически, в советской системе понятие «врач-ученый» было более распространенным, чем на Западе. Врач, работая клиницистом, всегда мог учиться в аспирантуре, проводить какие-то исследования, защищать кандидатскую или докторскую. На Западе же медики редко занимались наукой, существовала какая-то грань между врачами и исследователями. Степень PhD была прерогативой биологов и химиков. И только в последние 20 лет на Западе эти два понятия стали сочетаться. У нас несколько отличается понимание PhD. На Западе оно подразумевает проведение экспериментов в лаборатории или клинических испытаний. У нас же это работающий врач, который параллельно делает научную работу. При этом необязательно проводить эксперименты в лаборатории. Наукой я начал заниматься еще в Казахстане, мы проводили различные клинические исследования. Но, к сожалению, тогда отношение к фундаментальной науке я имел гораздо меньше, чем сейчас, в Америке. Больше всего к ней имеют отношение мои исследования о роли вируса папилломы человека (ВПЧ) в этиологии опухолей головы и шеи в Казахстане. По остальным темам это, скорее, ретроспективные исследования по анализу данных, а также клинические случаи.
А. М.: Что отличает врача-исследователя от просто врача?
Д.А. Врач-исследователь — это все-таки врач другого уровня, на голову выше обычного. Он поддерживает свои знания в определенной области, он читает больше научных статей, он глубже погружается в них. Такой врач не просто использует клинические протоколы и рекомендации, но и знает, на основе каких статей и исследований они были созданы. Он больше разбирается в методологии научных исследований. Одним словом, врач-исследователь гораздо круче, чем просто врач.
А.М.: Этот вопрос также затрагивает понятие доказательной медицины, которая у нас не очень развита. Во время пандемии выявилось большое количество врачей, которые идут на поводу у откровенно шарлатанских, не проверенных, коммерческих способов лечения. Почему так произошло?
Д. А.: Есть курс доказательной медицины в программе мединститутов, но, к сожалению, я не знаю, что там преподают. Многие слышали этот термин, но что он означает, знают не все.
С доказательной медициной в принципе сложно было во всем мире. Это, скорее всего, связано с человеческой природой. Интуитивно не хочется признавать, что твой опыт не имеет большого значения. К примеру, врач, как правило, говорит: я пролечил 10 человек этим методом, и они все выздоровели. Человек интуитивно больше верит своему опыту. Хотя в действительности, если экстраполировать на большие цифры, то результат другой. Человек чаще любит запоминать хорошие примеры, даже если у него было 100 случаев, когда пациенты умерли, он будет помнить те 10 случаев, когда пациенты выздоровели.
Обучение, понимание, что такое статистика, что такое биостатистика, что такое уровни доказательности, чтобы врачи знали, на основании какого исследования они назначают те или иные лекарства, — это должно помочь. Нет ни одного назначения в жизни, которое бы не было подкреплено каким-то исследованием. И к слову, статистика — это не скучно, её просто скучно преподают.
А. М.: А почему у нас в стране так мало врачей-исследователей?
Д.А. Вообще, в советское время было очень много врачей-исследователей. Со временем изменились два фактора: мы оказались отрезаны от мира, потому что передовая наука стала англоязычной, а значит, незнание врачом языка привело к отсутствию интеграции с миром. И второй фактор — сложности с финансированием, так как какое-то время, особенно в 90-е, оно было практически на нуле. Даже сейчас, по сравнению с западными странами, финансирование медицинских исследований у нас смешное. В итоге мы оказались в ситуации, когда наука для любого врача это, скорее, хобби, а точнее — лишняя работа, которая не приносит удовлетворения и дивидендов. Само собой, качество науки от этого тоже пострадало.
А. М.: Сейчас я хотела бы перейти непосредственно к вашим исследованиям. Прочитав ваши публикации, я вижу, что у вас есть три основных направления. Первое — новые методы микрохирургии при лечении опухолей головы и шеи. Затем очень важная, но неочевидная для множества людей тема — роль вирусов в этиологии опухолей головы и шеи, в особенности ВПЧ. И третья, очень интересная, на мой взгляд, — изучение генетических полиморфизмов у нашего населения. Предоставлю вам выбор первой темы для обсуждения: какой из своих научных статей вы гордитесь больше всего?
Д.А.: Основа моего практического опыта в клинике, моя специальность — хирургия. Но из научных публикаций больше всего гордиться я могу, пожалуй, статьей о роли ВПЧ в возникновении опухолей головы и шеи в Казахстане. Это одна из первых статей, которую я написал сам от начала до конца. Сначала она мне казалась написанной ужасно, но спустя какое-то время я ее перечитал и остался доволен своей работой. Она достаточно хорошо цитируется и имеет большое количество ссылок.
А. М.: Отлично, тогда поговорим о вирусах в этиологии рака. У нас в стране такое неоднозначное отношение к вирусам. Мы залечиваем огромное количество каких-то вирусных инфекций, когда они вообще не нуждаются в лечении, и приуменьшаем важность, например, вируса гепатита В. Давайте об этом поговорим. Как вы пришли к этой теме? Насколько население знакомо с понятием вирусной природы рака?
Д. А.: О вирусе папилломы человека и вирусной природе некоторых форм рака известно очень давно, но больше в связи с раком шейки матки. То, что он является причиной рака головы и шеи, стало известно недавно. Первые клинические исследования начались в конце 90-х. Потом, со временем стало ясно, что он является причиной рака ротоглотки. Для населения это малознакомая вещь. Для рака шейки матки есть четкий этиологический агент, есть скрининг. Большая очевидная разница, когда мы говорим о раке шейки матки, состоит в том, что на западе увидеть его — это уже казуистика, случаи очень редки. Это заслуга, во-первых, вакцинации от онкогенных типов ВПЧ, а во-вторых, эффективной системы скрининга.
Казахстанцы боятся вакцинации и в основной массе не ходят на скрининги. Со стороны медиков есть сложности в организации скрининга, и в большей части — это отношение людей к собственному здоровью. Что касается вирусной природы рака, среди наших онкологов есть хорошее понимание этой темы. Проблема скорее на уровне первичного звена, в поликлиниках (ПСМП) гораздо меньше понимания, как именно делать мазки, какую методологию использовать и т.д. Поэтому существует несоблюдение стандартов и техники выполнения скрининга на уровне поликлиник. А ведь именно там идет основная работа с населением, ведь мы хотим сделать акцент на превентивной медицине.
А. М.: Вы определили конкретные серотипы вируса папилломы. А почему нам важно их знать?
Д. А.: Во-первых, для эффективной программы вакцинации. В принципе, в мире циркулируют одни и те же серотипы. Относительно рака ротоглотки, в подавляющем большинстве случаев — это 16-й тип. В Европе он фактически является единственной причиной рака ротоглотки (80-90% случаев). А у нас есть значительная доля рака ротоглотки, вызванного курением. В нашем исследовании в той группе, которую мы изучали, ВПЧ в качестве причины был выявлен у 20%. Но в действительности этих случаев может быть гораздо больше. У нас была небольшая группа — 76 человек. Возможно, сейчас данные изменились. Необходимы более масштабные систематические исследования.
А.М.: Могут ли подобные исследования быть основой для практических рекомендаций для того же Минздрава?
Д. А.: Да. Рекомендации могут быть, например, о том, что вакцинацию надо проводить не только среди девочек, но и среди мальчиков, ведь рак ротоглотки — опасное заболевание, которое касается не только девочек и женщин. Но дело в том, что, к сожалению, наш регулирующий орган редко изучает научные статьи, чтобы менять свою политику. Получается в итоге, что хорошие исследования мы, врачи-исследователи, стараемся публиковать на английском языке. Статьи на русском языке, к сожалению, зачастую низкого качества.
А. М.: Я по собственному опыту поняла, что у нас существует разрыв между наукой и медициной. Сейчас, во время пандемии, когда у нас есть новый патоген, такой как SARS-CoV-2, нужно, чтобы наука и медицина работали вместе, чтобы были люди, которые бы понимали, что такое, к примеру, РНК-вакцины. Именно так сейчас создаются экспертные советы по коронавирусу в разных странах. Но часто ученым из фундаментальной науки, которые могут быть полезны и в медицине, указывают на отсутствие медицинского образования. В чем причина этого противостояния, если оно, конечно, существует?
Д.А.: У нас в стране наука редко превращается в практику. Такое представление присутствует на всем постсоветском пространстве. В научном центре Memorial Sloan Kettering, где я работаю, здание больницы и научный лабораторный комплекс, в котором трудятся радиологи, химики и другие ученые, стоят рядом. Между двумя зданиями есть переход, и совещания проводятся вместе. Руководителем лаборатории может быть клиницист, и, наоборот, в клинической группе может руководить ученый. Но даже здесь, в Нью-Йорке, между ними бывает недопонимание. Клиницисты могут не воспринимать ученых. Это происходит на каком-то более глубоком уровне и встречается во всем мире, и в развитых странах, в том числе.
А. М.: Давайте теперь поговорим о второй теме ваших научных исследований — о генетических полиморфизмах, которые встречаются у казахстанского населения. У вас была статья, что есть определенные генетические изменения, которые превалируют у пациентов с раком щитовидной железы. Я так понимаю, что мы очень плохо знаем наше население. Как вы пришли к этому исследованию?
Д.А.: Этот проект мы делаем в рамках гранта министерства образования и науки.
Это все зависит от генетических полиморфизмов (точечных изменений в последовательности ДНК — прим. автора). Генетический анализ мы проводили у нас же, в Институте онкологии. Здесь отдельно стоит упомянуть, что секвенировали (определяли последовательность ДНК - прим. автора) мы на аппарате, который нам бесплатно предоставила компания Illumina. То есть, по сути, бюджет проекта мы здорово сэкономили, запросив оборудование у компании. Проект всё ещё продолжается, я помогаю с написанием публикации. Но важно отметить, что финансирование для такого рода проектов у нас в стране минимальное, а поэтому мы можем и не узнать нужных деталей об особенностях нашего населения.
А. М.: Получается, что гранты для клинических исследований выдает МОН, а не Минздрав. Является ли это проблемой? Насколько грантодатели понимают смысл исследований, которые они финансируют?
Д. А.: Несмотря на то, что сейчас процесс распределения грантов становится прозрачнее, вплоть до недавнего времени была такая проблема: даже при высокой оценке международных экспертов деньги могли и не дать, так как гранты выдавались по каким-то неизвестным внутренним критериям МОН-а. Возможно, эта система изменилась, но недоверие осталось.
А. М.: Расскажите, пожалуйста, про центр, в котором вы работаете? Как сочетаются в нем исследования и практика?
Д. А.: Я здесь работаю в качестве исследователя пост-докторантуры. Интересный факт: в США степень врача соразмерна доктору PhD. Если вы окончили медуниверситет, вы можете сразу заниматься научными исследованиями на уровне пост-докторантуры. Это информация на заметку нашим врачам, которые хотят попробовать себя в исследовательской работе в США. Здесь я работаю в двух местах — в лаборатории радиологии и в клиническом отделении опухолей головы и шеи.
В отделении опухолей головы и шеи я провожу ретроспективные исследования на основе баз данных, которые имеются в нашем центре, либо баз данных крупных центров не только США, но и других стран, мультицентровые исследования. А в лаборатории радиологии мы проводим исследования по различным трейсерам, имунно-флюоресцентным препаратам, которые позволяют визуализировать опухоли или нервы. Например, есть такой таргетный препарат ингибитор PARP, который представляет собой моноклональное антитело, которое специфически распознает и крепится к клеткам опухоли.
То же самое может быть сделано и с нервом. Это клинические исследования, на данный момент — только первая фаза, где отрабатывается концепция, где мы определяемся с дозировкой, с силой лазера, при этом используя самое новейшее оборудование, которого нет в мире, такое как Черенков-КТ и электронный микроскоп. Эти исследования очень вдохновляют, и мы надеемся, что они приведут к новым достижениям в сфере диагностики и лечения опухолей, которые будут использовать во всем мире.
Во время исследования мы тесно работаем в группе учёных. Представьте себе, что, химик, физик, биолог, врач-хирург, врач-радиолог и биостатист сидят и обсуждают невероятные идеи, которые впоследствии воплощают в реальность.
А. М.: А что вы думаете по поводу того, что уезжают врачи? Очень много по этому поводу эмоций. Кто-то сокрушается, а я вот думаю, что это неплохо. Во-первых, это говорит о том, что наши врачи ценятся. Во-вторых, люди набираются нового опыта.
Д. А.: Да, я тоже считаю, что это неплохо. И даже если наши врачи останутся за границей, это тоже неплохо, потому что Родина — всегда Родина, они будут всегда свою страну поддерживать. Возьмите, например, Индию. Люди, которые эмигрировали, продолжают поддерживать страну. С другой стороны, конечно, намного хуже ситуация, когда уезжают массово, когда нет условий для работы, когда причина уехать не за опытом, а потому что просто плохо у себя в стране. В такой ситуации мало кто вернется. Но, с другой стороны, если условия улучшатся, то люди вернутся.
А. М.: Что касается лечения опухолей головы и шеи, а также рака щитовидной железы в Казахстане и за рубежом, есть ли большой смысл пациентам с данными заболеваниями искать доктора и клинику за рубежом?
Д. А.: По раку щитовидной железы, например, лечение за рубежом практически ничем не отличается от лечения в специализированных отделениях опухолей головы и шеи в онкодиспансере в Астане и в НИИ Онкологии в Алматы. Другие опухоли головы и шеи — это очень разнообразная группа болезней, от более простых видов рака, которые успешно лечатся и в нашей стране, до очень сложных случаев (например, новообразования основания черепа или редкие типы внеорганных опухолей), которые требуют особых методов лучевой терапии или иммунотерапии. Данные виды лечения невозможно получить в нашей стране. Но в целом, уровень хирургии головы и шеи в Казахстане достаточно высок.
А. М.: В получении редкого лечения и в решении других сложных задач, важных для пациентов, за рубежом важную роль играют пациентские организации. Насколько хорошо они у нас организованы? Влияют ли они на принятие решений?
Д. А.: С пациентскими организациями в Казахстане дело обстоит, к сожалению, очень плохо. В России, Белоруссии, Украине эта ситуация чуть лучше. Здесь я говорю именно об онкологии, так как насколько я знаю, в других направлениях у нас пациентские организации более активны. Были попытки создать организацию пациентов с меланомой, но в целом, это направление деятельности развито у нас достаточно слабо. И в итоге, такие организации редко у нас влияют на принятие решений государством.
А. М.: Для того, чтобы казахстанцам не нужно было ездить за рубеж для сложного лечения и чтобы развивать сложные методы экспериментальной терапии, необходимо наладить проведение клинических исследований. Есть ли в этом какие-то сложности?
Д. А.: Относительно недавно был принят новый закон о клинических исследованиях, до принятия которого всё было совсем плохо. Он, конечно, не решает все вопросы, но он помог облегчить многие процедуры регистрации, например, регламентировать сроки. Этот закон был объектом бурной дискуссии, так как была реакция и недопонимание населения. Многие думали, что на них начнут без предварительного согласия ставить опыты. Одним из инициаторов этого закона был и я. Конечно, у него есть недостатки, но сейчас Казахстан стал ближе к проведению второй и третьей фазы клинических испытаний международных компаний, таких как Pfizer и GSK. Я надеюсь, что они и другие будут активно входить на рынок Казахстана и у наших граждан появится доступ к современным препаратам, которые находятся на третьей фазе исследований. Особенно это важно для раковых больных. Представьте, что в мире появилось новое лекарство стоимостью $200 000 за курс, помогающее при поздней стадии определенной опухоли и его получают пациенты в той же Англии или США бесплатно в рамках клинического исследования. А из-за того, что мы были закрыты для клинических исследований или была бюрократическая волокита, наши пациенты не могли получить этого лечения, которое спасло бы им жизнь. Поэтому считаю, что этот закон открывает новые возможности для наших больных при получении современных способов диагностики и лечения многих заболеваний, в том числе и рака.
А. М.: Вы работаете в американском раковом центре. Они ведь отличаются от наших онкодиспансеров и представляют собой нечто между больницей и отелем, с уклоном на качество сервиса и этическое отношение. Возможно, вы тоже замечаете эту тенденцию, что к лечению рака в мире стали подходить немного по-другому. Например, на Западе обращают большое внимание не только на качество жизни, но и на качество смерти пациента. У нас же всё ещё есть случаи, когда на терминальном пациенте ставят крест и перестают поддерживать. Как вы думаете, идём ли мы в сторону более человеческого отношения к терминальным раковым больным?
Д. А.: В Казахстане этим занимается институт онкологии. Есть Казахстанская ассоциация паллиативной помощи. Врачам иногда кажется, что если пациент бесперспективный, то с ним можно попрощаться, так как помочь нечем. На самом деле есть много чего, что можно сделать, есть огромный пласт помощи, которую можно оказать терминальному пациенту вплоть до того, чтобы достойно умереть. Об этом часто забывают и онкологи, и врачи первичного звена. Хотя существует много разных проблем, которые можно решить: обезболивание, парентеральное питание — это целый объем помощи, который помогает пациенту не остаться один на один с болезнью в последние дни жизни, не остаться брошенным. В Алматы немного получше с этим, так как там есть Центр паллиативной медицины, есть мобильная бригада, которая ездит по домам и оказывает психологическую и медицинскую помощь. Во всех остальных городах эта ситуация гораздо хуже.
А. М.: А как это происходит в Америке? Студенты-медики изучают основы паллиативной помощи во время обучения?
Д. А.: Да, это является частью учебной программы. Они изучают и паллиативную помощь, и полный замкнутый цикл оказания помощи. У нас пациент из региона, из Актау, из Атырау может быть прооперирован в Институте Онкологии в Астане и потом уехать по месту жительства наблюдаться дальше. И хирург, который его прооперировал, потом не знает, что с этим пациентом, и сам пациент не может к нему вернуться. Какой-то последовательности нет. В итоге ни хирург, ни первичное звено не знают, как дальше оказывать паллиативную помощь.
А. М.: А возможно ли это изменить?
Д. А.: Конечно, возможно и реально изменить. Часто всё это сталкивается с банальными проблемами: финансированием на обучение, выделением тарифов на терминальную паллиативную помощь. Сейчас паллиативная помощь финансируется из ПМСП. Есть подушевой норматив по прикрепленному населению поликлиник, там же внутри есть деньги на паллиативную помощь. Но, конечно, поликлинике зачастую невыгодно выделять её по назначению.
А. М.: Возможно дело в отношении к старости? Например, мы сейчас по работе живем во Франции. У нас здесь есть соседи. Дедушке 92 года, ему сделали операцию на сердце. Через две недели он сел на велосипед. У нас же людей не то что после 80, после 60 начинают списывать. Зачем, мол, вам операция на сердце, если вы все равно умрете от наркоза.
Д. А.: Я стойко уверен, что люди везде одинаковые. Хоть в Западной Европе, хоть в Америке, хоть у нас в Казахстане. Есть много факторов: это и обучение врача, и коммуникация с населением. Если мы возьмем ту же Европу лет 40 назад, у них была такая же ситуация. Везде люди одинаковы. Просто нужно время, постепенное обучение. Нужно много работать.
А. М.: Здесь мы плавно переходим к третьему направлению ваших исследований — использованию микрохирургии в трансплантологии у раковых больных. Эта идея о качестве жизни после болезни, мне кажется, здесь проходит красной нитью. Я была поражена вашей работой, когда вы создавали новое отделение в Астане и приглашали партнеров из Индии и других стран. Именно этот новый уровень отношения к пациентам, когда цель не только вылечить, но и позволить человеку нормально жить, сохранить качество жизни.
Д. А.: Да, конечно. В хирургии головы и шеи это особенно важно, как эстетически, так и функционально. Операция делается на лице, а значит, любое изменение заметно. Это область, где человек и дышит, и питается, и говорит. То есть здесь задействовано большое количество функций. Если ты теряешь способность хоть в какой-то из них, качество жизни существенно меняется. Каждый врач хочет развиваться, и мы тоже видели свое развитие так. Но со временем все эти операции столкнулись со сложностями, и главная из них: нет тарифов на микрохирургические операции. Операции длительные, часов 8-10, больница тратит много денег, инструментарий, но ОСМС за это не платит. Поэтому сейчас их стало меньше. Мы это делали на энтузиазме, потому что нам это было интересно и очень хотелось помочь людям. Но если дальше не будет тарифов, то это всё быстро заглохнет.
А. М.: Очень жаль, ведь вы это делаете, в том числе, и для того, чтобы создать экспертное сообщество. А как у нас в стране относятся к коллаборации? Вот вы организовывали мастер-классы. Как сделать так, чтобы наше сообщество поняло, что без коллаборации, без сотрудничества мы никуда не можем двигаться?
Д. А.: Международное сотрудничество есть у всех, даже у самых крутых центров. Специалистов привлекают со всего мира, даже моя работа здесь тому пример. Разнообразие (diversity) — жизненно важно для науки и для того, чтобы привлекать разные умы, разные мысли, взгляды и т.д. Мне кажется, что многие наши врачи понимают, что важна коллаборация. Сложности возникают с языковым барьером. Очень мало врачей, владеющих даже базовым уровнем английского, особенно среди старшего поколения. Молодые, вероятно, владеют им больше, но старшее поколение подавляет молодых своим авторитетом, и в итоге молодежь никто не слушает. То есть присутствует так называемый «эйджизм» в нашей профессии.
А. М.: Что необходимо для развития международного сотрудничества в таких сложных областях, как микрохирургия?
Д. А.: Организовывать коллаборации не сложно. Что касается приглашенных специалистов, я выходил на связь с профессорами, которым в принципе деньги были не нужны. Им просто нужно было, чтобы кто-то оплатил билет и проживание. Например, в Астане мы организовывали мастер-класс, а городское управление здравоохранения оплатило билет и проживание. Они были даже рады: у них есть специальный фонд и бюджет, им эту статью расходов надо «освоить». К нам в страну приезжали крутые специалисты и оперировали бесплатно наших пациентов, при этом обучая своим навыкам и умениям наших врачей. И я очень благодарен им за это.
А. М. А как насчет коллаборации между казахстанскими учеными из разных направлений медицины? К примеру, с нашей героиней Алией Нурмуханбетовой мы обсуждали проблему радиомедицины и того, что есть нехватка узких специалистов.
Д. А. Я согласен, что у нас нехватка кадров во многих областях. Люди не идут специализироваться, потому что это занимает много времени и не оплачивается. Зачем им изучать какую-то смежную или дополнительную область, если они не смогут в будущем получить за это достойную и заслуженную оплату. Не секрет, что в нашей стране оплата врачей, в том числе зависит от благодарности пациента — на английском это называется «under-table payment». Поэтому, к сожалению, и к выбору специализации будущие врачи подходят вовсе не из-за научного интереса.
А. М.: Давайте закончим тему микрохирургии каким-то хорошим мотивирующим примером из вашей практики.
Д. А.: У меня несколько примеров молодых пациентов, которым мы восстанавливали нижнюю челюсть. Был один мужчина, который очень долго не хотел идти на операцию. У него был рак языка, он получал все нестандартные методы лечения, потому что пытался отложить операцию, которая оказалась неизбежной. А в день операции он даже хотел сбежать из клиники. Мы все вместе его уговаривали. Ему пришлось восстанавливать язык, поскольку убрать 2/3. И остальную часть языка мы делали из кожи предплечья, микрохирургическим путем, чтобы он мог разговаривать. Теперь он может разговаривать, глотать, питаться. В итоге, он каждый год приезжал к нам, в отделение, приносил какие-то сувениры, разговаривал с хирургами. Он сдружился с коллективом и был очень благодарен.
А. М.: Я знаю, что вы являетесь членом программы «Молодые лидеры сообщества по контролю рака». Что это за организация?
Д. А.: UICC (the Union of International Cancer Control) — это очень старая организация, она начинает свою историю с 1930-х годов. Она стоит у истоков системы классификации опухолей, стадий рака. Они организуют и проводят Всемирный день борьбы с раком ежегодно 4 февраля. У них есть программа лидеров, своего рода конкурс. Туда подают не только врачи, но и все, кто каким-то образом связаны с борьбой с раком, например, неправительственные организации. UICC организует мастер-классы по лидерству, позволяющие съездить на саммиты по борьбе с раком. Безумно рад, что оказался в семерке победителей этого конкурса в 2018 году и посетил саммит в Мексике и Малайзии. Там я познакомился с очень интересными участниками, людьми, которые много чего добились в своей области. Я считаю, что участие в таких встречах для специалиста очень важно: много возможностей для нетворкинга и для мотивации.
А. М.: У вас есть свой сайт, Youtube канал, инстаграм-страница. Вы записывали видео во время пандемии и даже участвовали в конкурсе спикеров. Это ведь очень энергозатратно. С другой стороны, у нас есть такая проблема в медицинском сообществе — конкуренция и даже соперничество, из-за которых специалисты не делятся информацией и опытом. Почему вы приняли решение выйти за рамки операционной?
Д. А.: Я считаю, что важно делиться знаниями и опытом. Я к этому пришел не так давно — года 3-4 назад. Пытаюсь подтянуть коллег, чтобы помочь им развиваться дальше. Это занимает очень много времени. Иногда делать эту работу совсем не хочется, так как кажется, что никто это не читает. Но я получаю обратную связь от молодых коллег, помогаю писать мотивационные письма, даю рекомендательные письма. Многие коллеги смогли пройти таким образом обучение за рубежом. Недавно узнал, что мои видео с канала используют преподаватели при изучении заболеваний, относящихся к моей специальности, и это очень вдохновляет.
А. М.: А как вы успеваете делиться знаниями через соцсети и одновременно работать над исследованиями?
Д. А.: Мой секрет — моя супруга, она взяла на себя большую часть работы по соцсетям.
А. М.: Сколько у нас сейчас хирургов-онкологов, которые специализируются на опухолях головы и шеи?
Д. А.: В основном они в Астане и Алматы. В Астане это моя команда, молодая, я очень ими горжусь. Есть единичные специалисты в Усть-Каменогорске, Шымкенте, Павлодаре, Караганде. Когда ты один в отделении, то гораздо сложнее работать. Специалиста воспринимают хуже, у него меньше операционного времени. Но они есть и они работают.
А. М.: Кто из них хочет связать свою практику с наукой?
Д. А.: Я организовывал мастер-классы по научным публикациям. В них участвовало человек 50-60, что уже очень много. Я не ожидал такого участия. Многие из них говорят: «За все годы учебы на PhD я получил меньше информации, чем на каком-то двухчасовом мастер-классе». Значит, несмотря на такие недостатки в нашем научном образовании, врачи интересуются наукой, хотят писать статьи. Но продвижение идет очень сложно, медленно. У них нет менторов, которые могут им помочь в продвижении. Я им всегда рекомендую найти ментора.
А. М.: То есть у нас отсутствует прослойка среднего класса профессионалов — клиницистов-ученых. Видимо, мы их потеряли в 90-х, как и во всей науке. В чем мы можем улучшить эту сферу деятельности? Включить какие-то модули в медицинское образование, подтянуть английский язык и наладить финансирование? Или есть какие-то еще другие организационные вопросы?
Д. А.: Важно понимать, что мир сейчас очень близкий. Есть и интернет, и Youtube, можно участвовать в конференциях, сидя дома. В Казахстан приезжают много ученых, поэтому проблемы скорее организационного характера и в основном касаются финансирования. А также важны обновления в программах обучения, например, в области доказательной медицины.
А. М.: Наш традиционный вопрос. Казахстанская наука — пациент скорее жив или мертв?
Д. А.: Есть свои проблемы, но есть врачи, которые хотят заниматься наукой. И это самое главное.
Автор благодарит Айгуль Шапранову за помощь в подготовке материала
Поддержите журналистику, которой доверяют.