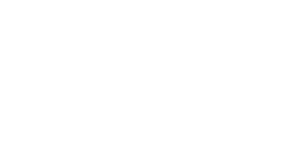Я всегда был мимо художества, это меня не привлекало, да и не умею я. Отец всю жизнь был художником-оформителем, он с друзьями занимался лепкой на всех зданиях кунаевских времен, ее до сих пор можно увидеть. Он был ближе к рабочему классу, все делал руками. Братишка стал дизайнером интерьеров, а учился на художника-ювелира.
Родители никогда не давили. Я формировался очень долго, понимание пришло после 30 лет, до этого была сплошная тусовка, которая пошла мне на руку. Я отшлифовывался, как профессионал в своей сфере, а тогда это было хорошее времяпровождение. В 80-90-х ни одна тусовка в городе не проходила без меня. Я был организатором многих, мы строили первый ночной клуб в том виде, в котором он должен быть. Именно не дискотека, а night club.
После школы я поступил в алматинский филиал Джамбульского технологического института легкой пищевой промышленности. Попал туда случайно. Одноклассник попросил сходить с ним, пока он сдавал документы, я ждал. Мимо проходил проректор и за 15 минут уговорил поступить. Оказалось, что в этот вуз шли только одни девушки, и им нужно было разбавить состав. Нас отправили в Джамбул, я сбежал после первого же курса. Вернулся домой. Ведь я молодой парень, привык всю жизнь быть в центре событий. А там — Джамбул, общежитие. Я помню, меня выгоняли из комсомола только за то, что мы на пятом этаже общежития включили громко музыку и танцевали рок-н-ролл.
.jpg)
Когда я вернулся в Алма-Ату, это было светлое время тусовок. 1988 год, к нам зачастили такие группы, как «Бригада», «Браво». Я много времени провел на этих концертах, не за горами оказался весенний призыв в советскую армию. Отслужил 2 года и 11 дней в обычной пехоте, официально это звучит так — мотострелковый полк. Оттуда вернулся другим человеком, стал более защищенным, уверенным в себе, правда, ожесточенным. Но мне все это помогло. Потому что пришли смутные 90-е. Я был готов к этому выживанию, когда пропало все из магазинов, была только старая рублевая наличка, а купить нечего. Нам всей семьей приходилось в 6 утра вставать в очередь в магазине «Россия» за молоком.
Я больше олицетворяю себя как человека 80-х. Времена алматинской битломании, деления на районы, романтичных драк один на один, когда лежачего не бьют. Или ты идешь и провожаешь девушку, тебя встречают оппоненты, ты говоришь: «Я провожу и вернусь». И ты действительно провожаешь и возвращаешься, хоть и знаешь, что от тебя живого места не останется, но ты обязан вернуться. Для меня это было беззаботное светлое время, правда, единственное разочарование – это разочарование первой любви. Любой нормальный мужчина через это проходит, это нужно было.
Вот сейчас все говорят: «кризис-кризис». Хуже, чем в 90-х уже не будет, люди уже наученные чему-то. Тогда все рухнуло, не знали куда идти. Помню, была сплошная барахолка, люди продавали все, что у них есть дома. Многие просто не выжили. Каждый раз, когда иду проведать на Кенсае усопших родственников, вижу всех этих ребят, которых знаю с малых лет, знаю, какие перспективы были, но они не состоялись именно в 90-х. Мне в этом отношении помогло воспитание, отцовская строгость и служба в армии. Я твердо стою на ногах и чувствую уверенность в завтрашнем дне. Это пришло не сразу, меня колбасило до 30 лет.
Первая половина 90-х была временем беспробудного пьянства всей страны, если не бывшего Советского Союза. Во-первых, обилие халявного алкоголя со всех сторон, источников было много, мы даже не могли отслеживать, натуральный ли это продукт или самопал. Во-вторых, после сухого Горбачёвского закона повалило отсутствие культуры питья. На тот период я уже работал в развлекательной сфере, помню все основные тусовки, знаменитые ночные клубы, такие как My Town и другие. Многие люди, которые сейчас работают в государственных структурах, были моими клиентами, я помню, кто и как себя вел. Включаю телевизор и думаю: неужели он таким был? Ну, это отдельная история. Было время, когда я вспоминал ту пору как смутные, темные времена.
Я от нечего делать пошел в райком комсомола и попросил их помочь мне зарегистрировать организацию, молодежно-творческое объединение, называлось «Жан и его друзья». Вокруг меня объединилось около 20-25 алматинских дворовых музыкальных групп. В тот момент на казахском телевидении была молодежная программа «Нет проблем», автором и главным журналистом которой был Арманжан Байтасов. Он мне тогда позвонил, попросил интервью дать. Я так испугался, ночь не спал. Не знал, что говорить и камеры страшно боялся. Это было мое первое интервью. Позже меня спросили, как меня представить и я придумал себе должность — продюсер. Хотя понятия не имел, что это. Осознание пришло, когда заочно поступил в Санкт-Петербургский гуманитарный университет на факультет искусства по специальности менеджер - продюсер в сфере музыкального искусства.
Первый клуб «Пилот» мы открыли в 1994 году в Академии наук. Первым диджеем был Нариман Исенов, совсем еще молоденький. Туда человек не мог зайти просто так, только по рекомендации. Нас сначала было 20 человек, потом 50, мы обрастали. За 2-3 года существования клуба ни один бандит или нежелательное лицо не просочились к нам в заведение.
.jpg)
Это был особенный мир — серая масса Алматы начала 90-х, разбавленная криминалом в трико. И мы – тусовка, которая гремела и шумела. Представляете, среди всей этой серой массы вдруг пробивается чувак с прической, как у Элвиса Пресли, с жутко оранжевым пиджаком, банданой, зауженными джинсами и замшевыми красными ботинками на манной каше.
На нас смотрели как на инопланетных существ. Сейчас перебираю фотографии и думаю: елки-палки, как можно было так одеваться? С этой компании вышло много телеведущих, радиоведущих, ивентщиков - людей, которые влияют на культурное настроение Алматы. Это была особая семья, звезда, которая в один момент разорвалась на огромное количество мелких звезд и каждый состоялся.
Потом, в середине 90-х, пошли более серьезные клубы: My Town, «Элита». Параллельно существовали совершенно коммерческие, такие как «Манхэттен», где присутствовала ярмарка тщеславия. Когда начали открываться первые кофейни, главным атрибутом были стеклянные окна. Ты подъезжаешь к той кофейне, где больше всего обзора на парковочную стоянку. Все должны видеть, как и на чем ты подъехал, с какой дамочкой вышел и во что одет. Это нормальный процесс. Мы должны были наесться, наиграться во все, чего у нас не было.

В 93-94 годах я уже понял, что я слабый музыкант. Последняя группа, где я барабанил, называлась «Мотор». Когда я ушел, в ней остался Ильяс Аутов, он продолжил, и она называется сейчас «Мотороллер». Вся жизнь прошла в контакте с музыкантами. Я видел становление, взлеты и падения многих. Когда я сам перестал играть музыку, понял, что я научился слушать ее. Как играет бас или барабан. У меня был период с конца 90-х, почти 10 лет — я избегал этой сферы. Но от судьбы не уйдешь, наши пути расписаны, есть 2-3 альтернативные дороги, но они идут к одной и той же цели.
Тебя просто с дороги на дорогу мотает. Я настолько устал от всего, было сплошное разочарование. Шоу-бизнеса нет, ничего не продается, колоссальные силы тратишь на это. Игра в одни ворота. Сейчас я понимаю, что нужно было созреть. И то сейчас я не занимаюсь локальным продуктом. У меня исключительно международные проекты. Я понимаю, почему у нас не работает шоу-бизнес и киноиндустрия. Не потому что нет гениальных специалистов, у нас нехватка населения. Многие наши режиссеры понимают, что нужно интегрироваться и создавать международные продукты. Я вижу развитие бизнеса только в интеграции со всем миром.
В 1997 году я стал продюсером группы «Уркер» и тогда у меня появились первые задатки в плане экспериментов с этнической музыкой. Если покопаться в творчестве «Уркер», то можно найти у них один трек, где поет бабушка, а аранжировка «Уркер» – это первый опыт, который через 15 лет привел к фестивалю этнической музыки The Spirit of Tengri. Позже я экспериментировал с Сашей Шевченко, но когда мы почти записали целый альбом, не хватило какой-то тысячи долларов. Тогда родился первый сын, тоже было непонятно. Долго мы семьей не прожили, через месяц разошлись. Это был период депрессионного состояния.
Девяностые учат держать удар. Меня много обманывали, «кидали», сейчас прошло время, и так всем благодарен. Счастлив, что все учителя были у меня в жизни. Сейчас я морально готов к любому кризису. Разница в том, что тогда я был один, а сейчас за мной семья. У меня страх только за мою семью, и то я стараюсь об этом не думать, если я смогу сдержать удар, значит, семья будет защищена.
Среди моего окружения есть люди, которые очень хорошо тогда жили. Это был период романтического капитализма, все жили в кредит, никто деньги не отдавал. Практически ничего фискального не было, люди разбрасывались деньгами, оставляли чаевые в 300 долларов. Бешеное время было, где ты либо ничего не имеешь, либо ты настолько богато живешь, что скупаешь целыми автобусами. Приходит человек в ночной клуб и говорит: « У тебя есть такая-то водка? Отправь, пожалуйста, официанта», - и вытаскивает пресс денег, который в руку не помещается. Богатство – это ведь тоже проверка. Многие сейчас занимаются брюзжанием, мол, зачем я так поступал, лучше бы сохранил деньги. А мне повезло, может, потому что у меня тогда этих денег не было.

С годами понимаешь, что всегда надо залечивать раны, неважно —душевные или физические. Почему человек попадает в больницу? Всевышний дает ему время над чем-то подумать, что-то изучить. Если человек неправильно воспринимает любую болезнь, любую хандру, он не выживает. Как только он понимает и делает правильные выводы, он идет на следующую ступень.
В 95-м я пролежал во всех больницах города, мне не могли поставить диагноз. Я высох весь, весил 50 килограмм. Жизнь тогда привела меня в онкологию, тогда я впервые начал над собой работать. Честно говоря, я уже готовился, что всё, сказал родителям, что никого не хочу видеть. Только двое близких друзей навещали. Тогда мне попалась в руки книжка, как не смешно, женская книга Луизы Хей «Человек, который поборол рак». В тот момент я больше никогда не останавливался, перелопатил огромное количество литературы. Шаг за шагом я выкарабкивался. Мое окружение рухнуло, как шелуха. Осталось одинокое дерево, вокруг которого были свежие ростки – мои самые близкие друзья. Качественный круг, с которым я сейчас по жизни и иду. Они знают меня от и до, терпят меня, местами я — их.
Меня радует, что наше поколение может чему-то удивляться. Для меня банан до сих пор – экзотический продукт, чего не скажешь о моих детях. Им легче достать банан, чем нормальное червивое яблоко. А у нас они текли тоннами по Алматинке, по арыкам. Вся вода уходила вниз по Ленина и с этими ручьями катились яблоки. Мы могли их брать оттуда, вытирать об одежду и есть.
Наше поколение не перестает удивляться. Я удивляюсь спецэффектам, гаджетам, даже интернету. Мы как-то чистили сарай, там племянник нашел советский дисковый телефон и спросил: «Мынау не?» А мы ведь часами могли дозваниваться по нему. Был еще блокиратор. Тебе надо позвонить, а ты ждешь, пытаешься пробиться. Если ты ни до кого не дозвонился, то идешь по дворам и ищешь. Ловишь на пятом дворе. При этом уходило много времени, но мы успевали общаться. Успевали найти друг друга, а сейчас так легко друг друга потерять.
Мы постоянно что-то придумывали, — от самокатов до игрушек, из подручных материалов делали пистолеты, луки, брызгалки. И ведь хорошо, мысль-то работала.
Вспомнил, как к гостинице «Казахстан» подъезжали туристы, и мы значки с советской символикой меняли на жвачки. У меня до сих пор такая шутка, когда друзья заграницу едут: «Братан, жвачки привези». Это был другой мир, сейчас этим никого не удивишь, но для меня это все еще заграничный продукт. В 2006 году я полетел на Кубу. Я, будучи испорченным капиталистическим мышлением, попадаю в совок с кубинским лицом, весь такой в сальсе и танцах, но это был совок и бедность. В министерстве культуры я не мог разрулить, мне говорили: «Hasta Manana» (аста маньяна) — завтра-послезавтра». В один момент я злой вытаскиваю Dirol, и меня останавливает удивленная женщина. Я за две подушечки жвачки развел все, что мне нужно было.
Мы сейчас сидим в модном заведении и философствуем о том, что было. А совсем рядом стоит рюмочная, она открылась в конце восьмидесятых. Это серьезное заведение с богатой историей. Посетителей я знаю в лицо. Они состарились вместе с этим местом. Но как они выжили? Непонятно. Пару раз мне довелось там побывать, там идет не просто пьянка. Это люди, которые всю жизнь прожили в Алматы, это великовозрастные пацаны, как я их называю. Они так и остались пацанами, если раньше они на лавочках пьянствовали, то теперь это отдушина. Все новые места для них чужды, а там как раньше: пластмассовый столик, буфетчица-официантка в кокошнике и с пальцами-сосисками. У них идут серьезные разговоры, они вспоминают старую жизнь, политическую ситуацию. Кто-то может прийти с семейной проблемой. Они выпивают целый день. Выходя, они поддерживают друг друга. У них осталась эта романтика внутри, они остались теми же людьми. Человек застрял в восьмидесятых – это трагедия, но иногда я им завидую. Они живут той жизнью, когда мне было комфортно. Они себя заспиртовали настолько, что не меняются. Понятно, что я такой жизни не хочу, но приезжая в свой район в мае месяце, смотрю, как все цветет. Я помню каждое дерево, каждый уголок, многое поменялось. Но есть вечные вещи, как эта рюмочная. Раньше, выходя с сигаретой на Ленина-Шевченко, я мог за 15 минут встретить тут 500 тысяч знакомых, сейчас многие разъехались, либо я замечаю, насколько они постарели. С ужасом понимаю, что, наверное, я выгляжу также.