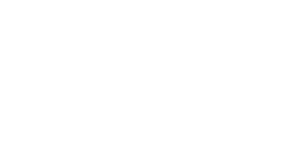Большую роль в моей жизни сыграл папа. После войны он стал градостроителем, работал в АДК. Он по жизни был больше гуманитарий, очень хорошо знал историю, особенно историю КПСС, знал когда, в каком году, какого числа прошел определенный съезд партии, какие там были приняты директивы, постановления, кто был секретарем съезда. Это меня всегда приводило в восторг. И каждый раз, когда мне надо было написать какой-нибудь доклад, реферат, политинформацию, папа очень сильно помогал, и я все думала: а что мне мешает все это запомнить и знать? И тогда я начала воспитывать в себе гуманитария: очень много читала. Причем пока была маленькая, читала все подряд: и то, что задавали в школе, и то, что не задавали. В 8-9 классе мы уже начали читать то, что считалось модным течением, то, что пряталось под одеялом, с фонариком. Я никогда не забуду, как читала «Человек, который смеется» Виктора Гюго, и плакала, и восторгалась, и Мопассана мы втихаря читали. В библиотеке за книгами выстраивалась целая очередь. Мы все знали, у кого эта книга сейчас на руках и буквально чуть ли не третировали человека: «Когда ты вернешь книжку в библиотеку?» Мы росли филологами, руссоведами, для нас было престижно грамотно говорить на русском языке и грамотно писать.

Я очень сильно хотела поступить в Алматинский государственный медицинский институт, подала документы на факультет педиатрии. У меня даже получилось сдать три экзамена, но я завалилась на физике, которую не любила. Когда забирала документы из приемной комиссии, мне один преподаватель сказал: «Ну что же ты так, такие хорошие оценки, какая ты молодец! Ну, надо же было подготовиться по физике». Я сказала: «Ну, значит, не судьба!» Тогда нашему поколению было проще. Не поступив в институт, я пошла работать лаборанткой в Казахский научно-исследовательский институт животноводства. У меня была очень хорошая зарплата – 75 рублей. Работала в отделе кормления животных, мы там мыли пробирки, делали анализы, но самое интересное, я сидела с таблицей Менделеева и со всеми физическими процедурами. У меня там были хорошие учителя, и я быстро всё освоила, и всё стало получаться. Но я понимала, что не смогу осилить АГМИ и решила идти в пединститут. И когда я туда пришла, то первое, что я узнала в приемной комиссии – на факультете русско-казахского отделения филологического факультета есть медицинская кафедра. И я принципиально — из-за медицинской кафедры — сдала документы на этот факультет. Для меня это был самый любимый предмет, я никогда не опаздывала и с удовольствием ходила на все практики. Например, в мою любимую центральную поликлинику на Джандосова, 6. Там я приходила на практику в качестве медсестры в приемном покое. Там были молодые хирурги, которые издевались нам нами, студентами, заставляли нас делать всякие вещи, от которых нас шарахало в разные стороны, но, тем не менее, мы крепли духом. Сейчас они маститые врачи, и когда я с ними где-то вижусь, мы всё это вспоминаем и смеемся. Они могли сказать: «Подержи, это очень важно», - и дают тебе какую-то кишочку, и когда ты видишь, что хирург уже все зашил, то спрашиваешь: «А это куда?» А потом выяснялось, что это у тебя в руках удаленная слепая кишка. Это практиковалось со всеми студентами.

Я с особой ностальгией вспоминаю наше образование, оно было лучшим в мире. Если бы его сейчас вернули, мы бы много грамотных и образованных людей получили. Мне очень больно сейчас смотреть на наших студентов, которые ничем не заняты. Как только наступало 25 мая, мы все экстерном сдавали летнюю сессию, для того, чтобы 1 июня выехать в СОПы (студенческий отряд проводников) и ССО (студенческие строительные отряды). У нас мальчики уже с января начинали в комитете комсомола формировать эти отряды. Выезжали мы по всему Казахстану, строили все, что нужно: школы, кошары, дома. Мы приезжали обратно с такими огромными деньгами! У нас мальчишки сами себе делали свадьбу, считалось неправильным, если твою свадьбу оплачивают родители. Если ты не заработал на свадьбу, ты не имеешь права жениться.
В институте я получала «абайскую» стипендию – 80 рублей, а самая высокая была «ленинская» – 100 рублей. Это притом, что моя мама работала и получала 45 рублей. Я приходила, отдавала маме большую часть стипендии, оставляла себе 30 рублей на проезд, обеды. С ССО я привозила тысячу рублей. Это были хорошие деньги.
Нам прививали любовь к искусству. Мы, студенты, всегда имели абонементы, получали их в профкоме. И мы расстраивались, если из-за комсомольского собрания, которое проводится вечером, не могли попасть в Абайку, Ауэзовку, Лермонтовку или в Казахконцерт. Мы на этих собраниях ерзали, зная, что у нас в кармане на 19.00 лежит абонемент и старались занимать места в последнем ряду, чтобы тихо уйти с собрания. Потом мы с дочерью всегда ходили в театр. Помню, ей было 6 лет, мы пошли на оперу «Спящая красавица». Дочь у меня на плече уснула. Но мы пробыли там до самого конца. Одна женщина сказала: «Зачем вы так мучаете ребенка? Зачем водить ее в театр, если она спит?» Мужчина, который сидел впереди нас, сказал: «Что вы, это же хорошо. В отличие от нас она не просто все слышала, она видела это еще во сне». Он меня так вдохновил, и я гордо посмотрела на женщину, разбудила свою дочь и мы пошли. На мой вопрос: «Тебе понравилось?», она ответила: «Конечно, мама». До сих пор мы иногда вспоминаем об этом, и она говорит: «Мама, а ведь он был прав, я все слышала».
В 1986 году был очень тяжелый период, друг на друга доносили, очень много студентов пострадало, очень много пострадало невинных, случайных людей. Я тогда работала в комитете комсомола в Политехническом институте, было много звонков о помощи, о поддержке. Если честно, я не праздную 16 декабря. У меня есть другие праздники, но не этот.
Мы считаемся поколением детей родителей, которые прошли войну и подняли страну после нее. Мне потом папа говорил: «Мы не для того воевали, чтобы наши дети шли на войну». На наше поколение упал Афганистан. Многим моим одноклассникам и сверстникам пришлось пройти через это. Кто-то вернулся, кто-то — нет. Мы — то поколение, которое прошло через декабрь 1986 года, через развал Союза, и на нас же навалились 90-е. Через наши сердца, через наш ум это все прошло. И я хорошо помню тот период, когда нам зарплату давали целыми пакетами. И потом, когда нужно было рубли поменять на тенге, то очень много денег просто осталось. Потом с ними играла дочка. Я помню тот период, когда доллар был 3 тенге, и буквально каждый день он рос, и остановился на 70 тенге. Было очень много людей, которые занимали доллары по 3 тенге, а отдавали по 70. Через это мы тоже прошли.

Когда развалился Союз, панического страха не было, думаю, потому что мы были сильнее. Сейчас я тоже не испытываю страха, потому что считаю, что все утрясется. Мы как раз те люди, которые говорят: «Лишь бы не было войны, лишь бы ничего не рушили, машины не поджигали, бутики не громили, на площади не выходили». Потому что мы понимаем, что этим вопрос не решится, он только усугубится.
Тогда, в 90-х, многие потеряли жилье из-за того, что не смогли оплачивать коммунальные услуги. Если вы помните, жилье уходило за 2000 долларов. Одни мои знакомые в Талды-Кургане продали четырехкомнатную квартиру за 500 долларов, потому что ее не на что было содержать. Вот тогда мы впервые услышали слово «бомж». Бомжей в Союзе не было, они появились в 90-х. Тогда мы впервые услышали слово «безработный». Тогда может и был бы социальный взрыв, но после 1986 года люди не решились, и молча, стиснув зубы, терпели. Многие уехали из страны, боясь, что границы закроют.
Самое страшное в этом периоде было то, что мы потеряли очень много талантливых людей, культуру, науку, — врачи и ученые ушли на рынки, чтобы прокормить семью. Причем вышла на рынки та часть, которая не смогла выехать из страны. Я об отъезде не думала, потому что у меня здесь очень глубокие корни, но мой младший брат уехал, уже больше 20 лет живет в Париже, даже стал французом. Мы потеряли эту нишу нашей науки, образования, здравоохранения, и может быть, сейчас мы как раз и испытываем дефицит в этих кадрах. Сейчас тоже идет большой отток людей из Казахстана, выезжают те, кто хочет реализовать себя еще где-то. Мы сегодня немножечко повторяемся. Но тогда, в 90-х, была очень сильная духовность и патриотизм, мы любили свою страну и верили в то, что преодолеем все трудности. Да, были люди, которые потерялись. И тогда мы заговорили о психологической помощи населению, о том, что в центрах занятости нужны клубы самопомощи, тогда впервые были инициированы проекты по переориентации безработных на получение новых специальностей. К концу 90-х все это уже работало.
Тогда, в 90-х, мне удалось себя переориентировать. В том плане, что я поняла, что стране нужны люди, которые смогут помочь пережить этот период, и я училась психологии. Я вытащила из себя советское образование, а психология в Союзе преподавалась тогда очень сильно. Именно это поколение, рожденное в 50-х, начале 60-х, оно и составило основной костяк перестройки. Именно это поколение стало развивать малый и средний бизнес, это были крепкие ребята, даже сейчас известны их имена.
В 90-е я работала в министерстве геологии, когда оно выехало в Астану, ушла в «Национальную лотерею Республики Казахстан», которая специально была создана для того, чтобы помочь Астане развиваться. Это был социальный проект, очень красивый, очень интересный, до сих пор эта компания благополучно работает.
Лотерея была создана по принципу советских лотерей и даже при том же ведомстве – при Минфине. Я занималась тем, что обучала менеджеров и торговых агентов тому, как нужно распространять билеты, как общаться с покупателями, чтобы у людей было доверие к этой кампании. Людям нужно было объяснять, что лотерея поддерживается государством. У нас был жесткий возрастной ценз – разрешалось играть только с 21 года. Основной контингент – от 45 и дальше. У меня даже мама играла, она всегда с пенсии покупала 2 билета Бинго. Муж тайком от меня покупал билеты лентами. Мы даже получали какие-то небольшие призы, у меня до сих пор есть тостер, который мы выиграли в Национальную лотерею.
В профкоме во времена дефицита брали талончик, чтобы купить ковер, холодильник, стиральную машинку «Алма-Ата». И я благодаря этому купила ковер, который до сих пор есть, люстру, и какая-то женщина на работе мне уступила талончик, и я приобрела стиральную машину. Когда мой муж вернулся из командировки, он сказал: «Боже мой, я уехал в поле, а в доме тут ковер, люстры и стиральные машинки!» В 1990 году я родила дочь, и три года провела в декретном отпуске. По законодательству Советского Союза нам не разрешалось выходить на работу, иначе мы лишались своих декретных денег. В 6 утра я будила своего старшего сына, и он с бидончиком шел за молоком, и стоял в очереди. Чтобы молока всем хватило, наливали только литр. Это молоко было только для дочери.
Когда была в декрете, пекла торты на заказ. Причем пекла так много, что до сих пор не могу есть торт «Наполеон». Ко мне приходили бабушки, соседки по подъезду и я шила для них неплохие халатики. А вот сейчас не хочу ни печь, ни шить. Но если сложится такая ситуация, что придется опять выживать, то конечно, начну все это делать. Может, еще буду и медицинские услуги оказывать: ставить уколы, инъекции.
Скорее всего, тот дефицит привел к последующему бесконтрольному потреблению. Голод всегда порождает обжорство. Когда мы открыли границы, к нам повалилось то огромное, неконтролируемое количество товара. Как раз тогда мы с вами получили мужчин-импотентов от китайского пива, алкогольные деревни от китайского спирта, мальчиков с грибковыми поражениями от китайской обуви и бесплодных молодых женщин и девочек, которые налегали на всю китайскую продукцию и вещи. Вы, наверное, помните периоды, когда девочки наши носили заниженные джинсы, появились эти китайские таблетки для похудения? Тогда мы потеряли целое поколение.

Сегодня смотрю на нашу молодежь: она растерялась, потому что она очень сильно привязана к нам. Мы, пережив 90-е годы, хотели для своих детей более спокойной и благополучной жизни. Может быть, мы слишком их защищали, не давая им возможность себя реализовать? Если бы мы больше давали своим детям самостоятельности, и больше бы прививали им духовных качеств и патриотизма, то, может быть, мы имели бы более сильное поколение.
В итоге, Бог меня все равно привел в медицину. В 90-е годы, во время работы в Национальной лотерее, у меня случились два инфаркта, сказывалось напряжение, беспокойство, социальный страх за детей, семью. Я помню, когда попала в кардиологию, то впервые услышала такой диагноз от врачей «синдром менеджера». Это говорили про молодых ребят, которые не выдерживали давления, сердце болело, и врачи ставили им синдром хронической усталости, синдром эмоционального выгорания, тогда впервые стали эти вещи озвучивать.
В «Национальной лотерее» я проработала 5 лет. В 2002 году заболела раком. Когда поняла, что из-за болезни не смогу работать в таком жестком режиме, ушла, открыла фонд «Здоровая Азия». За 13 лет мы добились внедрения международных стандартов лечения рака груди, появились новые виды диагностики и препараты для лечения. А в 2011 году открыли детский хоспис.
Я уже много лет работаю в НПО, у меня всегда спрашивают – как вы вообще выживаете? Ну, у меня есть дети. Я сейчас даже не думаю о пенсионных отчислениях. Считаю, что мой пенсионный фонд – это мои дети. Мне было приятно, когда в этом году сын сказал: «Мама, может, уже закроешь фонд? Будете с папой путешествовать, страны посмотрите, я вам все это обеспечу». Но не те люди мы. Я представила, что буду совсем бесполезной, а мои пациенты сразу осиротеют, кто о них позаботится? Это невозможно... жизнь продолжается… я знаю только одно: из всего, что нам пришлось пережить, в моей памяти больше позитивных и счастливых моментов, и сейчас я думаю о том, что наша страна благополучно все переживет, мы сильные духом люди, и мы справимся…